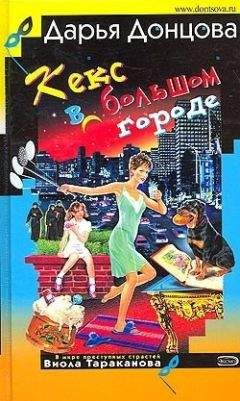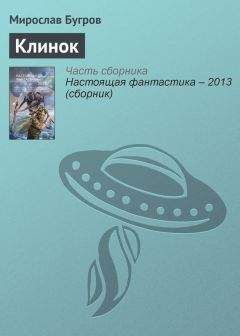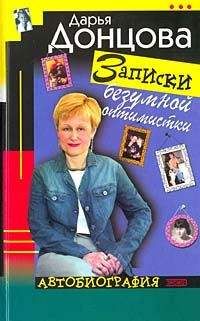Дарья Беляева - Маленькие Смерти
И удивляюсь, как возвышенно и правильно звучат эти слова, которые я привык воспринимать, как семейную шутку. Я было даже чувствую себя частью богослужения, как и все остальные верующие, но когда священник начинает свою речь с «Господь со всеми вами», а люди отвечают:
— И со духом твоим!
Я теряюсь, и продолжение диалога с паствой не улавливаю совсем. Монахиня рядом, зато, говорит очень громко. Священник ведет службу на английском, но монахиня молится на латыни, и даже когда священник замолкает, она шепчет что-то на латыни, наверное, проговаривает пропущенные части богослужения.
Ее шепот успокаивает меня, усыпляет, и очень скоро огни церкви передо мной гаснут, обнажая темноту. Свет свечей больше ее не скрывает, и теперь они выглядят как крошечные светлячки в беззвездную, глухую ночь. Я вижу, что на скамьях сидят мертвые, они тоже слушают, и свет, исходящий от них куда ярче любого физического света. Мертвые тоже находят успокоение в Боге, и я не хочу их тревожить.
Я хочу тихонько встать и осмотреться, но тут темнота распадается, свет свечей заливает меня снова и почти режет мне глаза.
— Молодой человек, — говорят мне. — Неприлично спать на службе.
— Извините, — отвечаю я смущенно. Со всем осуждением мира, на меня смотрит старая монахиня. Она вся испещрена морщинками, как карта реками, но у нее не по-старушечьи синие, удивительные глаза.
Того же цвета, что у моего стрелка. И такой же сильный, невыносимый ирландский акцент. Оставшееся время службы, я стараюсь незаметно ее рассмотреть. Довольно несложно, учитывая, что она увлечена своей практикой в мертвом языке.
Она явно очень стара, но еще сохраняет признаки былой красоты. Ее чистые, ухоженные руки сжимают розарий. Под ее покровом не видно ни волоска, она невероятно ухожена, что вдруг напоминает мне невротическую аккуратность отца, галстуки, рубашки и даже подтяжки которого всегда должны быть такими идеальными, будто именно их внешний вид поддерживает порядок в мироздании и удерживает его от падения в хаос.
После того, как служба оканчивается, и священник отпускает всех идти с миром, монахиня вдруг говорит мне:
— У тебя красивое имя. Ты знаешь, кем был человек, который его носил?
— Мужиком, разговаривающим со зверушками и птицами?
Она улыбается уголком губ. Я думаю, она бы и засмеялась, но в церкви этого делать, должно быть, нельзя.
— Нет, Франциск. Человек, в честь которого тебя назвали, проповедовал любовь. И использовал для этого самые прекрасные слова, которые только есть в человеческом языке.
— Кто вы такая? — спрашиваю я тихо, в храме мне не хочется повышать голос. Я не задаю очевидного, дурацкого вопроса, откуда она знает мое имя. Стрелок ведь его тоже знал, отчего бы его не знать бабушке или старой тетушке стрелка, от которой он унаследовал свои удивительные глаза.
Монахиня продолжает перебирать розарий, потом едва покачивает головой, будто я задаю неверные вопросы.
Она говорит, с ласковой полуулыбкой:
— Морин Миллиган. Я прихожусь тетей твоим родителям. Очень приятно познакомиться.
— И моей двоюродной бабушкой, так?
Она прикрывает рот ладошкой, будто боится засмеяться.
— Хорошо, — кивает она. — Ты способен на простейшие когнитивные операции.
И от ухоженной бабушки-монашки слышать слова моего отца несколько неожиданно. Она продолжает своим тихим, красивым и мелодичным голосом:
— Но ты снова задаешь неверные вопросы, Франциск.
Она вытягивает руку с розарием, почти касаясь воротника моей рубашки, но — не касается.
— Теперь спрошу я. Ты знаешь, на что способен отец, потерявший единственного сына, от любимой женщины? Ты знаешь, что он способен преступить законы мироздания ради своей плоти и крови? Ты когда-нибудь видел, чтобы твой отец плакал?
Протянув мне свою морщинистую, хрупкую руку, похожую на лапку обезьянки, она предлагает:
— Хочешь посмотреть?
Я делаю движение ей навстречу, но вдруг замираю.
— Не хочу.
— Однажды все равно увидишь, — говорит Морин легко и печально. — Ты представляешь, чем занимается твоя семья?
— Ну, в основном они бездельничают и пьют. Во мне же четыре с половиной литра чистой ирландской крови.
— Хорошее чувство юмора для трупа.
Звучит вовсе не как угроза, бабуля просто констатирует факт.
Она говорит:
— Передай, пожалуйста, папе весточку от тетушки Морин.
— Какую? — спрашиваю я, я смотрю ей в глаза, и в этот момент они синие и совершенно пустые.
— Последний же враг истребится — смерть.
Глава 3
Утром я и дядя Мильтон сидим на кухне одни. Мэнди и Итэн на работе, как функционирующие члены нашего маленького общества, а мы представляем собой семейный атавизм, лишенный смысла и наполнения, по крайней мере финансового.
Не то чтобы наша семья излишне нуждалась в финансах, но, как говорит отец, она нуждается в работе, как источнике радости и страсти.
Источником своей радости и страсти Мильтон сейчас похмеляется. А где мои радость и страсть, я даже думать боюсь. Я говорю, размешивая сахар в кофе:
— Ты не рано начинаешь, дядя?
На что Мильтон отвечает, обнажив белые, красивые зубы.
— Я еще не закончил просто.
Я люблю дядю Мильтона. Даже пьяного. В первую очередь это, конечно, показывает меня как человека терпеливого и способного за любовь пострадать.
Дядя Мильтон облокачивается на стол, потом почти укладывается на него, подтягивает к себе солонку и перечницу. Он говорит за солонку:
— Сдавайся, песчаный ниггер!
И говорит за перечницу:
— Аллах Акбар!
А потом разбивает перечницу вдребезги. Пока дядя Мильтон лицезреет останки своего воображаемого врага, я переливаю виски из его стакана в свой кофе.
— Слушай, — начинаю я. — А ты помнишь тетушку Морин?
Мильтон чуть вскидывает бровь, потом ставит солонку на место, говорит:
— Мы уехали из Дублина, когда мне было два года, близняшкам год, а Итэном Салли вообще была только беременна. Мы не помним родственников Моргана.
Своих родителей мои родители всегда называют только по именам.
— То есть, вы никогда не видели тетю Морин?
— Ну, Морган о ней говорил. Но я без понятия, по крайней мере подарки на дни рожденья она мне не посылала. Да и что там из Ирландии посылать? Картошку?
Мильтон хрипло, красиво смеется, потом смотрит в пустой стакан и вздыхает с трагичностью, достойной Гамлета. Надо же, думаю я, надо же. Мы о ней ничего не знали, а она о нас знает все?
— А письма? Открытки?
— Никогда!
— Ни одной?
— Ты думаешь я тебе вру? — пожимает плечами Мильтон.