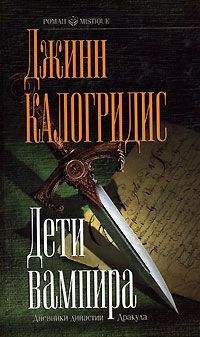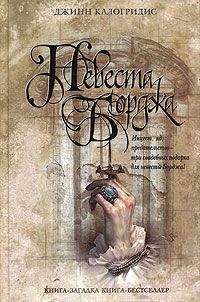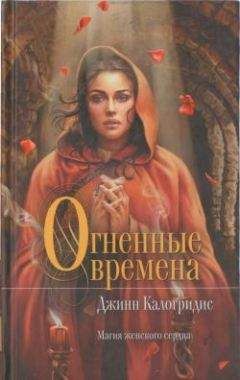Джинн Калогридис - Договор с вампиром
Неизвестный побывал и здесь: дверца ниши осталась открытой, а место последнего упокоения моего отца было осквернено. На мраморном полу валялись сметенные безжалостной рукой красные розы. Винты, скреплявшие крышку гроба, были вывернуты и брошены, а сама крышка – снята и прислонена к ближайшей стене. Свинцовый футляр, предохраняющий от распространения трупного запаха, был пропилен и отогнут.
Негодяй посмел надругаться над телом моего отца! Из его груди торчал толстый деревянный кол, вбитый, как мне показалось, при помощи молота. Рот покойного был открыт; внутри что-то белело (вначале я решил, что носовой платок), а его шея...
Боже милосердный!
Бедный мой отец!
Изуверу, совершившему этот акт вандализма, почти удалось перепилить моему отцу шею и отделить голову от туловища, но довести свое мерзкое деяние до конца он не успел. Поскольку отец умер два дня назад, крови было мало. Меня обрадовало, что отцовское лицо сохраняло умиротворенное выражение. Однако голова, почти отделенная от тела, под тяжестью собственного веса немного запрокинулась. Подбородок приподнялся, и моему взору открылась страшная ярко-красная рана, нанесенная пилой. Жуткого пурпурного цвета мышцы были рассечены, и за ними виднелись шейные позвонки. Еще немного, и злодей добрался бы до них. Мне вдруг показалось, что я перенесся во времени на двадцать лет назад и вновь нахожусь на поляне, где лежал с разорванным горлом Стефан.
Шок, вызванный этим жутким зрелищем, породил странное, полностью захватившее меня видение, которое я мог бы посчитать галлюцинацией, если бы не его исключительная реалистичность.
Я вновь был пятилетним ребенком. Я смотрел на отца и видел очень ясно. Отец выглядел лет на двадцать моложе. В его волосах не было седины. В колеблющемся свете свечей я встретился взглядом с отцом и изумился: его взор был исполнен любви и отчаяния. Отец держал в своей большой сильной руке мою худенькую детскую ручонку. Я вдруг сообразил, что мы с ним находимся не на мокрой от дождя поляне, а в каком-то громадном темном помещении, по стенам которого мечутся тени. Потом перед моим лицом что-то блеснуло. Я вскинул голову, беспомощный, как Исаак в мгновение, когда Авраам занес над ним нож[8].
Я вдруг почувствовал дикую боль в висках и схватился за голову. Видение тут же пропало, сменившись пугающей мыслью: "Я определенно схожу с ума".
Я опустился на четвереньки, изогнулся и меня вытошнило прямо на холодный пол. Вслед за этим я потерял сознание. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я наконец открыл глаза и с трудом встал. Ноги дрожали и подкашивались. На полу, рядом с гробом, я увидел орудия осквернения: тяжелый железный молот и ржавую ножовку. Там же валялось несколько головок чеснока. Должно быть, вандал не успел забрать орудия своего гнусного действа и в страхе бежал. Только зачем ему понадобился чеснок?
Помешательство не оставило меня, а лишь сменилось состоянием, которое я бы назвал истерической яростью. Признаюсь: окажись этот злодей-осквернитель передо мною, я убил бы его голыми руками. Я знал, что не могу вернуться в дом; нет, только не туда! Я ни словом не обмолвился Мери о своем страшном открытии, и не обмолвлюсь. Представляю, какой ужас вызвал бы у нее мой рассказ и какой вред причинило бы это нашему ребенку. Поэтому вместо того, чтобы вернуться домой, я стремглав понесся по южному склону и вскоре, задыхаясь и обливаясь потом, оказался у массивной дубовой двери замка, которую венчала каменная арка Я был уверен: только В. сумеет мне помочь, только дядя поймет меня правильно.
Подбежав к двери, я отчаянно забарабанил в нее. Острые металлические заклепки впивались мне в кулаки, но я не чувствовал боли. Не получив ответа, я стал выкрикивать дядино имя.
Через какое-то время, показавшееся мне вечностью, дверь медленно приоткрылась, но не более чем на фут. В сумраке проема стояла плотная, коренастая седая служанка, одетая как и все местные крестьянки, только поверх цветастого платья у нее был надет белый фартук, который от обычного отличался тем, что прикрывал еще и спину. На шее служанки висело большое золотое распятие. Женщина недоуменно и довольно сердито глядела на меня.
– Где Влад? – громко спросил я. – Мне нужно немедленно его видеть!
Служанка высунула голову. Ее волосы оказались вовсе не седыми, а светлыми, с проседью на висках.
Да и сама женщина была далеко не старой. Я бы назвал ее быстро стареющей. (Может, это какая-то местная напасть? Мне сразу вспомнилось, как заметно постарели Жужанна и отец.) Лицо служанки показалось мне смутно знакомым, но меня сейчас абсолютно не интересовало, где я мог ее видеть. Однако память услужливо подсказала: она была на похоронах отца. В детстве я тоже иногда видел ее в числе других служанок.
– Воевода[9]никого не принимает, – сурово сказала женщина.
– Он обязательно меня примет! – дерзко возразил я. – Мой отец...
Я умолк, едва сдерживая слезы.
Служанка, близоруко щурясь, подалась вперед, затем негромко вскрикнула и тут же прикрыла рот ладонью.
– Да это же сын Петру! Господин, простите меня. Глаза ослабели, а то бы я вас сразу узнала. Вы так похожи на отца. Прошу, заходите.
Она открыла дверь и жестом пригласила меня войти.
– Я должен немедленно видеть своего дядю!
У меня дрожал голос. Служанка покачала головой.
– А вот это, молодой господин, никак нельзя. Он еще не вставал.
– Так разбуди его! – потребовал я.
Бледно-серые глаза служанки округлились.
– Это запрещено, господин, – пробормотала она, явно удивляясь, что я не знаю очевидных вещей. – Всем строго-настрого запрещено тревожить его сон. Слугам не велено попадаться ему на глаза. Только кучеру Ласло позволено входить в его покои. Но воевода должен скоро встать. Тогда и поговорите с ним. Вам-то он не откажет. Пойдемте со мной в гостиную, там и подождете.
Я был настолько потрясен увиденным в склепе, что даже не стал возражать, а позволил служанке взять себя под локоть. Она повела меня по узким коридорам. Затем мы поднялись по каменной винтовой лестнице наверх. И в детстве, и в юности я видел замок преимущественно снаружи. Внутри я бывал крайне редко, и сейчас новизна впечатлений захлестнула меня, еще более усугубив мое и без того взвинченное состояние.
Гостиную правильнее было бы назвать залом. Помещение не имело окон, но в полумраке приветливо горел очаг, распространяя свет и тепло. Я находился в такой прострации, что не слышал слов служанки, и ей пришлось буквально силой усадить меня в кресло возле очага.
– Аркадий Цепеш, – произнесла она, наклоняясь ко мне.
Меня поразил и звук ее голоса, и то, что она знает мое имя. Уловив мое удивление, женщина слегка улыбнулась: