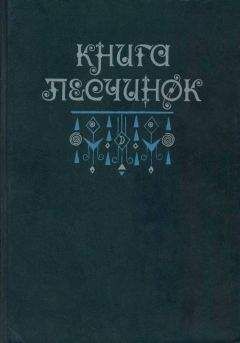Осип Сенковский - Русская фантастическая проза XIX - начала XX века
Однажды, в начале августа, ко мне в лабораторию зашел лорд Чальсбери, еще более усталый и постаревший, чем в предыдущие дни; он сказал мне с брезгливым спокойствием:
— Милый друг, я чувствую, что близится моя смерть, и во мне проснулись старые предрассудки. Хочу умереть и быть похороненным в Англии. Оставляю вам немного денег, все дома, машины, землю и мастерские. Денег вам хватит, соразмерно с теми расходами, которые я имел, года на два-три. Вы моложе и энергичнее меня, и, может быть, у вас что-нибудь выйдет. Милый наш друг мистер Найдсон поддержит вас с радостью в любую минуту. Подумайте же хорошенько.
Этот человек давно стал мне дороже отца, матери, брата, жены или сестры. И поэтому я ответил ему с глубоким убеждением:
— Дорогой сэр, я не оставлю вас ни на одну секунду.
Он обнял меня и поцеловал в лоб.
На другой день он созвал всех служащих и, заплатив каждому из них двухгодовое жалованье, сказал, что дело его на Каямбэ пришло к концу и что всем им он приказывает сегодня же спуститься с Каямбэ вниз, в долины.
Они ушли веселые, неблагодарные, предвкушавшие сладкую близость пьянства и разврата в бесчисленных притонах, которыми кишит город Квито. Один лишь мой помощник, молчаливый славянин, — не то албанец, не то сибиряк, — долго не хотел уходить от своего хозяина. «Я останусь при вас до моей или вашей смерти», — сказал он. Но лорд Чальсбери поглядел на него убедительно, почти строго, и сказал:
— Я еду в Европу, мистер Петр.
— Все равно, и я с вами.
— Но ведь вы знаете, что вам грозит там, мистер Петр.
— Знаю. Веревка. И, однако, все равно я не покину вас. Я все время в душе смеялся над вашими сентиментальными заботами о счастии людей миллионных столетий, но никому не говорил об этом, но, узнавши близко вас самого, я также узнал, что чем ничтожнее человечество, тем ценнее человек, и поэтому я привязался к вам, как старый, бездомный, озлобленный, голодный, шелудивый пес к первой руке, приласкавшей его искренно. И поэтому же я остаюсь при вас. Баста.
Я с изумлением и с восторгом глядел на этого человека, которого я раньше считал окончательно не способным на какие-нибудь возвышенные чувства. Но учитель сказал ему мягко и повелительно:
— Нет, вы уйдете. И сейчас же. Мне дорога ваша дружба, мне дорога ваша неутомимая работа. Но я еду умирать к себе на родину. И ваши возможные страдания только отяготят мой уход из мира. Будьте мужчиной, Петр. Возьмите деньги, обнимите меня на прощание, и расстанемся.
Я видел, как они обнялись и как суровый Петр несколько раз горячо поцеловал руку лорда Чальсбери, а потом бросился прочь от нас, не оборачиваясь назад, почти бегом, и скрылся за ближайшими зданиями.
Я поглядел на учителя: он, закрыв лицо руками, плакал…
Через три дня мы шли на знакомом мне пароходе «Гонзалес» из Гваякиля в Панаму. Море было неспокойно, но ветер дул попутный, и в подмогу слабосильной машине капитан распорядился поставить паруса. Мы с лордом Чальсбери все время не покидали каюты. Его состояние внушало мне серьезные опасения, и временами я даже думал, что он мешается в уме. Я глядел на него с беспомощной жалостью. Особенно поражало меня то, что через каждый две-три фразы он непременно возвращался мыслями к оставленному им на Каямбэ кювету № 216 и каждый раз, вспоминая о нем, твердил, стискивая руки: «Неужели я забыл, ах, неужели я мог забыть?» Но потом речь его становилась опять печальной и возвышенной.
— Не думайте, — говорил он, — что маленькая личная драма заставила меня сойти с того пути трудов, упорных изысканий и вдохновений, который я терпеливо прокладывал в течение всей моей сознательной жизни. Но обстоятельства дали толчок моим размышлениям. За последнее время я многое передумал и переоценил, но только в иной плоскости, чем раньше. Если бы вы знали, как тяжело в шестьдесят пять лет перестраивать свое мировоззрение. Я понял, вернее, почувствовал, что не стоит будущее человечество ни забот о нем, ни нашей самоотверженной работы. Вырождаясь с каждым годом, оно становится все более дряблым, растленным и жестокосердым. Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире — капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколения сказочных полишинелей-миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц. И так будет вечно. И моя идея продлить солнечную жизнь Земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы… Нет, не хочу этого… Ах, боже мой, этот кювет! Ах, неужели я забыл! Неужели! — вдруг воскликнул лорд Чальсбери, хватаясь за голову.
— Что вас так тревожит, дорогой учитель? — спросил я.
— Видите ли, милый Генри… Я опасаюсь того, что сделал маленькую, но, может, очень роковую…
Больше я ничего не слышал. На востоке вдруг вспыхнуло огромное, как вселенная, золотое, огненное пламя. И небо и море точно потонули на мгновение в нестерпимом сиянии. Тотчас же вслед за этим оглушительный гром и какой-то горячий вихрь свалил меня на палубу.
Я потерял сознание и пришел в себя, только услышав над собою голос учителя.
— Что? — спрашивал лорд Чальсбери. — Вас ослепило?
— Да, я ничего не вижу, кроме радужных кругов перед глазами. Ведь это катастрофа, профессор? Зачем вы сделали или допустили это? И разве вы не предвидели этого?
Но он мягко положил мне на плечо свою маленькую прекрасную белую руку и сказал глубоким нежным голосом (и от этого прикосновения и от этого уверенного тона его слов я сразу стал спокоен):
— Неужели вы не верите мне? Подождите, зажмурьте крепко глаза и закройте их ладонью правой руки и держите так, пока я не перестану говорить или пока у вас не пройдет в глазах световое мелькание, потом, прежде чем открыть глаза, наденьте очки, которые я вам сейчас сую в левую руку. Это очень сильные консервы. Слушайте, мне казалось, что вы успели узнать меня гораздо лучше за это короткое время, чем знали меня самые близкие люди. Уже ради только вас, моего настоящего друга, я не взял бы на свою совесть такого жестокого и бесцельного опыта, который грозит смертью нескольким десяткам тысяч людей. Да и то сказать, чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев?
Образуйся сейчас на месте республики Эквадор с ее сплетнями, торгашеством и революциями сплошная дыра в преисподнюю, от этого ни на грош не потеряют ни наука, ни искусство, ни история. Немножко жаль моих умных, терпеливых, милых мулов. Правда, скажу вам по совести, я ни на секунду не задумался бы принести в жертву торжеству идеи и вас и вместе с вами миллион самых ценных человеческих жизней, если бы только я был убежден в правоте этой идеи, но ведь всего три минуты тому назад я вам говорил о том, что я окончательно разуверился в способности грядущего человечества к счастью, любви и самопожертвованию. Неужели вы можете подумать, что я стал бы мстить маленькому кусочку человечества за мою громадную философскую ошибку? Но вот чего я себе не прощаю: это чисто технической ошибки, ошибки рядового привычного работника. Я в данном случае похож на мастера, который стоял двадцать лет около сложной машины, а через двадцать лет и один день вдруг взгрустнул о своих личных семейных делах, забыл о деле, перестал слушать ритм, и вот сорвался приводный ремень и своим страшным размахом убил несколько муравьев-рабочих. Видите ли, меня все время мучила мысль о том, что я по рассеянности, приключившейся со мной первый раз за все эти двадцать лет, забыл остановить часовой завод у кювета № 216 и поставил его нечаянно на полный взрыв. И это сознание все время, точно во сне, преследовало меня на пароходе. Так и оказалось. Кювет взорвало, и от детонации взорвались и другие хранилища. Опять моя ошибка. Прежде чем хранить в таком громадном запасе жидкое солнце, мне нужно было бы раньше, хотя бы с риском для собственной жизни, проделать в малых размерах опыты над взрывчатыми качествами сгущенного света. Теперь оглянитесь сюда, — и он мягко, но настойчиво повернул мою голову на восток. — Отнимите руку и теперь медленно, медленно откройте глаза.