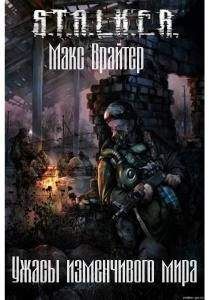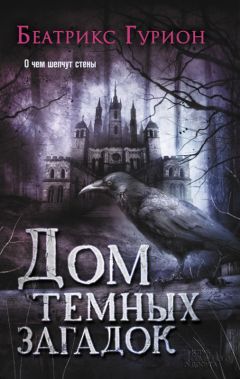Сет Грэм-Смит - Авраам Линкольн Охотник на вампиров
Аврааму- старшему только что исполнилось сорок два. Хорошая наследственность сделала его высоким и плечистым. Тяжкий труд — мускулистыми жилистым. Он ни разу не проиграл в борцовом поединке или драке, и проклял бы себя последним словом, если бы проиграл теперь. Он подобрал ноги («медленно, словно его ребра были сломаны »), выпрямил туловище и сжал кулаки. Ему было больно, но боль могла подождать. Сначала он хотел избить этого маленького сына…
Челюсть отца отвисла, стоило ему посмотреть в лицо мальчишке. Что, во имя дьявола, он там увидел…
— Что это, о, Го?…
Мальчик провел свинг по голове Авраама. Промахнулся. Авраам сделал шаг назад и поднял кулаки, но немного замешкался, и его ударили снова. Опять промахнулся. Он ощутил, словно кто-то ужалил его в левую сторону лица. Что-то не так? Покалывающая боль под глазом. Он коснулся этого места кончиком указательного пальца… только коснулся. Пошла кровь — обильным потоком из тонкого, как бритвой, пореза от уха до губы.
Он не промахнулся.
Это последние секунды моей жизни.
Авраам ощутил, как его голова идет назад. Ощутил, как лопнул глаз. Свет ото всюду. Кровь бежала из носа. Еще удар. Еще. Где-то кричал его сын. Почему он не убежал? Челюсть треснула. Зубы вылетели. Крики и удары несли его дальше и дальше. Он потерял сознание… и больше в него не пришел.
Оно схватило Авраама за волосы, било и било его, пока череп не «треснул, как яичная скорлупа ».
Чужак охватил шею отца, поднял в воздух тело. Я опять закричал — мне показалось, что он напоследок решил его задушить. Но, вместо этого, он надавил своими длинными, как ножи, ногтями на адамово яблоко и пропорол в том месте кожу. Он припал ртом к ране и стал пить из нее, как из горлышка бутылки. Жадно глотал кровь. Когда она пошла не так обильно, он охватил грудь отца руками и сильно сдавил ее. Он выжал сердце до последней капли, после чего отбросил тело в грязь и обернулся. Посмотрел на меня своим мертвым взглядом. И я все понял.
Я понял, почему отец так испугался. Его глаза были черны, как уголь. Зубы, острые и длинные, как у волка. И белое лицо демона, разорви меня божья сила, если это неправда. Мое сердце перестало биться. Я забыл, как дышать. Он стоял, лицо его было в крови отца и это…
Клянусь вам, оно сложило руки на своей груди и… запело.
Это был приятный, высокий, хорошо поставленный голос мальчика. С хорошо заметным английским акцентом.
Когда боль на теле откроет новые раны,
Когда в горе страшном разум от тела уйдет,
Музыка звуком серебряным гонит печали —
От боли и горя жизнь худую спасет{3}.
То, что такие дивные звуки исходили от столь отвратительного существа, что на бледном лице была такая теплая улыбка — все придавало происходящему образ злой шутки. Закончив пение, он дал низкий, долгий поклон и устремился в лес. «Исчез, и мгновение спустя я не увидел даже белого пятна среди деревьев». Восьмилетний Томас встал на колени у скрюченного, опустошенного мертвого отца. Каждый дюйм тела дрожал.
Я знал — нужно соврать. Господь милосердный, никому нельзя рассказывать правду, или они решат, что я спятил, или что я врун, или чего похуже. Разве мог нормальный человек увидеть такое? Я успел придумать нормальное, убедительное объяснение. Когда прибежал Мордекай с кремниевым ружьем, когда он потребовал рассказать, что же здесь произошло, я заплакал и выдал ему все, что смог выдумать. То, во что он поверил бы — что банда воинственных шони убили отца. Я не мог сказать правды даже ему. Не мог сказать, что это был вампир.
Эйб не мог говорить. Он сидел напротив пьяного отца, и только треск горящих поленьев нарушал тишину.
Я слышал сотни его историй, некоторые случаи из жизни других людей, некоторые — из его собственной. Но он никогда ни одной не выдумал, даже в таком состоянии. Честно говоря, не думаю, что он вообще был способен выдумывать. Так же я не видел ни одной разумной причины, чтобы врать о таких вещах. Оставалась только одно разумное объяснение.
— Думаешь, я свихнулся, — сказал Томас.
Это было то, о чем я подумал — но я не ответил. Я научился в таких случаях держать рот закрытым, потому как был серьезный риск рассердить его самым невинным замечанием. Я решил посидеть молча, пока он не отправит меня спать.
— Черт побери, для этого у тебя есть все основания.
Он сделал последний глоток своего «пойла пахаря»{4} и посмотрел на меня с такой нежностью, которой я никогда прежде не видел. В это мгновение все вокруг исчезло, остались только мы двое, но не двое изможденных работой людей, а других людей — словно из другой, лучшей жизни. Отец и сын. Когда его глаза наполнились слезами, я удивился и испугался. Я почувствовал — он умоляет меня поверить. И все же я не мог поверить в такую глупость. Это была просто пьяная болтовня. Вот и все.
— Я рассказал это, потому что ты должен знать. Потому что ты… заслуживаешь правду. Я видел вампиров всего два раза в жизни. Первый был там, на поле. Второй…
Томас посмотрел в сторону, сдерживая слезы.
— Второго звали Джек Бартс… и я видел его, когда умерла ваша мать…
Летом 1817-го отец совершил грех зависти. Он устал наблюдать, как соседи имеют царские прибыли с урожаев зерна и кукурузы. Он устал надрывать спину строя амбары, которые они использовали для хранения богатств, а ему доставались крохи. Он почувствовал, впервые в жизни, что-то вроде амбиций. И что ему не хватает капитала.
Джек Бартс, знавший толк в одежде низкорослый однорукий человек, в свое время сделал состояние на судоходном бизнесе в Луисвилле. Он один из немногих в Кентукки промышлял кредитами частным лицам.
В молодости Томас работал у него, загружал и разгружал флэтботы на Огайо за двадцать центов в день. Бартс всегда относился к нему хорошо, платил вовремя, а, когда пришло время расставаться, пожал руку и пожелал им обоим скорейшей встречи в будущем. Больше, чем через двадцать лет, весной 1818-го, Томас Линкольн решил воспользоваться приглашением. Со шляпой в руках, опустив голову, он сидел в офисе Джека Бартса и просил ссудить семьдесят пять долларов на плуг, ломовую лошадь, семена и «все, чтобы вырастить урожай, за исключением дождя и солнца».