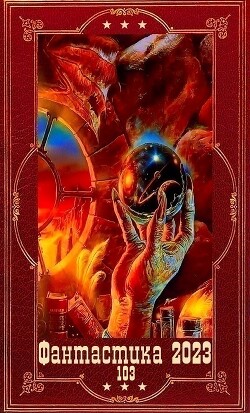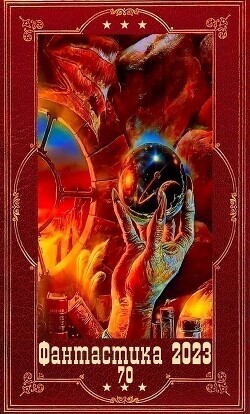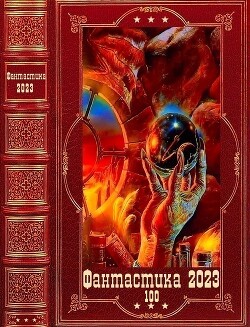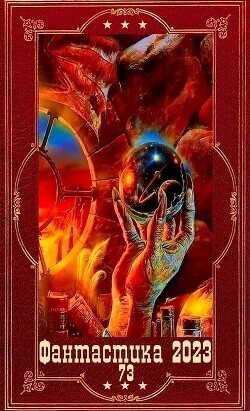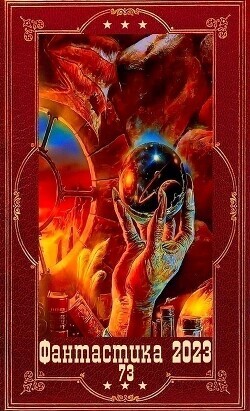Непорочная пустота. Соскальзывая в небытие - Ходж Брайан
«Тут воняет!»
«Это я уже знаю. Это кто угодно скажет. А еще что?»
Я не знала, какой ответ будет правильным, а какой — нет, и не знала, что вообще он хочет услышать и не подумает ли он, что я вру, потому что…
Потому что как может печь быть такой холодной в середине лета? Не вся, даже не большая ее часть, всего лишь одно место у задней стенки. Здесь слишком темно, а значит, это не огонь, но оно все равно обжигает. Начинает казаться, что я прижалась щекой к кусочку льда или к флагштоку в зимний день, и щека онемела. И я не просто прилипла, как если бы лизнула флагшток; оно оттягивает мою кожу — так бывает, если приложить руку к шлангу пылесоса без насадки, — а когда я поворачиваю голову, чтобы оно перестало жечься, мне приходится зажмуриться, потому что иначе оно высосет мне глаз.
И я знаю, что плохой дядя никуда не делся, я чувствую его тяжелую руку на пояснице и большую потную ладонь с растопыренными пальцами на спине. Каждый палец — словно ветка, проросшая в мои кости, чтобы удержать меня на месте. Но я больше не слышу его. Моя голова теперь так далеко, что сзади до ушей не доносится ни звука. Я едва слышу, как дышу, или плачу, или пытаюсь объяснить ему, каково тут, в печи. Здесь так тихо, что тишина сама превратилась в звук и заглушает все остальное, и я боюсь, что если он продержит меня здесь еще немного, то сначала улетит мой глаз, а за ним последует и все остальное, словно большая и длинная нитка спагетти. То, что скрывается здесь, внутри, меня проглотит.
Я не хочу, чтобы это случилось, не хочу туда. И при этом… хочу. По крайней мере, возможно, что тогда я попаду в место, где мне больше не будут делать больно. Но вдруг мне там не сделают больно только потому, что там нет никого, вообще никого, а это может оказаться еще хуже.
А потом он выдергивает меня из печи и смотрит на мою щеку, удивленный: что это, откуда оно взялось?
«Я буду хорошей, — вот что я ему говорю. — Я не хочу, чтобы меня жарили. Я буду хорошей».
Он смеется так, что это не похоже на смех.
«Не бойся. Я больше не могу разжечь там огонь. Даже когда просто хочу согреться. С тех пор, как… Это он его задувает. Но все хорошо. Мы можем заняться другими вещами».
И мы ими занялись.
Когда я сидела в безопасности, в одном из уютных кресел доктора Ганновер, и воспоминания вернулись ко мне свежими, отмытыми от грязи, сажи и пепла, я поняла, что Уэйд Шейверс, должно быть, делал это с каждым из нас, кого похитил после Броди. «Ну-ка, полезай туда». Что, во имя тварного мира, оставил там после себя этот странный паршивец?
На мгновение он и стоявшая в дверях пожилая женщина застыли, глядя друг на друга, и Таннер ощутил вину за то, что его застукали на месте преступления — каким бы оно ни было. Может ли это считаться проникновением со взломом, если двери уже были распахнуты?
— Ты ведь мальчишка Густафсонов, да? — спросила она наконец.
Он не ожидал, что его узнают. Родители увезли их отсюда через несколько месяцев, за восемьдесят миль от Черри-драйв.
— Раньше был, да.
— Я — миссис Рэмсиджер. Живу через дом, на той стороне улицы. Я увидела тебя в окно. Но ты не похож на обычных поганцев, которые тут ползают. Так что я решила сначала заглянуть сюда, прежде чем снова вызывать полицию.
Она была одета в джинсы и мешковатую футболку и, хотя кожа ее огрубела и покрылась морщинами, а волосы стали белыми как снег, выглядела здоровой и подтянутой — одна из тех женщин, которые не намерены расставаться с садовой лопаткой, пока кто-нибудь не вытащит ее из их холодных мертвых пальцев.
— Ты меня, наверное, не помнишь. Я смотрела, как вы растете, когда проезжала мимо вашего дома по пути сюда. А на Хеллоуин вы с целой толпой приходили к нам за конфетами.
Из прошлого, спотыкаясь, выбрели воспоминания: средних лет семейная пара, которой Хеллоуин и раздачи сладостей были настолько по душе, что каждый год она устраивала огромную выставку тыкв, картонных надгробий и висевших на деревьях призраков. Ни один ребенок не мог устоять перед таким приглашением, и награда за это всегда была первоклассной.
— Я помню, — ответил Таннер. — Значит, вы так отсюда и не уехали? Большинству людей не захотелось бы, проснувшись поутру, видеть через дорогу этот дом.
Миссис Рэмсиджер провела рукой, тонкокожей и покрытой венами, по дверному косяку.
— Мы с мужем говорили о переезде. Но решили, что с тех пор, как это место опустело, оно нуждается в присмотре больше, чем мы нуждаемся в побеге от него. С нашим-то домом все в порядке, так с чего бы нам позволить этому нас выселить?
Она посмотрела на землю.
— В первые несколько лет я постоянно срезала цветы и приносила сюда. Укладывала их рядом с дверью и еще там, где кончается двор и начинается лес. Наверное, не стоило мне бросать эту привычку.
Она снова подняла взгляд и посмотрела на лес вдали, словно там все еще оставались могилы.
— Они до сих пор заслуживают цветов, тебе не кажется?
— Не знаю. Наверное, мертвым проще отпустить прошлое, чем живым.
— Будем надеяться, что это так. — Она похлопала себя по груди; из-под футболки донесся глухой стук. — Я и мое сердечко. А вот ты… Не знаю, издалека ли ты приехал, но тебе точно не просто улицу нужно было перейти, чтобы сюда добраться.
Она посмотрела на него, не моргая и не ожидая ответа, просто даря ему слегка печальную улыбку: улыбку женщины, которой хотелось бы, чтобы ее воспоминания были лишь слегка грустными — воспоминания о том, как она дарила конфеты детям, которые просто выросли и уехали, не чувствуя нужды возвращаться.
— Не спеши. Проведи здесь столько, сколько тебе нужно. А потом я посмотрю, не найдется ли у меня немножко цветов для… тех, кому они могут быть нужны. На случай, если кому-то станет легче, когда они поймут, что их не забыли. Что за них до сих пор молятся, если им это важно. Да даже если и не важно.
— Спасибо вам, — прошептал Таннер. — Я расскажу ей об этом, когда увижу.
Слово «если» он выговорить не смог.
Когда миссис Рэмсиджер оставила Таннера одного, ему захотелось, чтобы данное ею обещание что-то значило, что-то большее, чем само это действие: выбрать несколько цветков за их красоту, перерезать стебли, отделяя от того, что питало их, а потом бросить у двери, когда-то скрывавшей убийства детей, чтобы цветы увяли, побурели и сгнили, и никто об этом не узнал, и ничего от этого не изменилось.
Таннер снова уселся на корточки возле печи и засунул в нее руку, шаря в пустоте. Ладонь обдало холодом, и что-то слабо потянуло за кожу.
Дафна рассказывала об этом ощущении десять лет спустя, но он ей не верил. Из-за того, что эти воспоминания пришли к ней под гипнозом, они всегда казались ему подозрительными — памятью, приклеенной на место с помощью внушения; возможно, это вообще был какой-то другой случай, который годы связали с тем, что она пережила здесь. Он верил, что Дафна в это верила, и этим ограничивался.
Если Уэйд Шейверс не мог разжечь огонь в печке, дело было в его криворукости. А не в том, что кто-то или что-то этот огонь задувало.
И все же кусочек тех дней сохранился здесь до сих пор.
Если все действительно происходило так, как рассказывала Дафна, это могло объяснить одну вещь — не как она появилась, но хотя бы что это такое. Тем летним днем, когда ее вынесли из сарая живой, у нее на щеке был ожог размером с монету, красный и вздувшийся. Они думали, что это след еще одной пытки, которой подверг ее Шейверс, — например, раскалил круглый боек молотка с помощью пропановой горелки и использовал его как клеймо.
Только в следующие дни пятно повело себя не как тепловой ожог. Оно почернело и в конце концов слезло, обнажив под собой заживающую розовую кожу.
Врачи в больнице сказали, что это было похоже на обморожение.
С одной стороны приземистой печи торчал рычаг, железный с деревянной ручкой. Сейчас он был поднят — это значило, что дымоход открыт. Таннер давил на него всем весом, пока ржавчина со скрежетом не поддалась и вьюшка не закрылась, отрезая трубу.