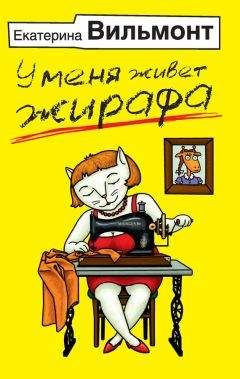Лорел Гамильтон - Сны инкуба
Он застыл на миг, будто опасаясь мне повредить, но я притянула его, заставила рухнуть на себя. Его глаза синими озёрами огня глядели на меня сверху, и то, что он увидел, заставило его принять решение, потому что он схватил мои оголённые бедра двумя руками и изогнул так, что его кожаный доспех стал тереться точно о самое чувствительное место.
От этого ощущения спина у меня выгнулась дугой, голова запрокинулась. Я охватила его ногами за пояс, прижалась ещё крепче, вдавливая в себя эту странно-шероховатую гладкость.
Далёкая искра разгоралась ярче. Я вливала в Дамиана энергию, вливала жар, и знала, что он уже пробудился. Знала, что он смотрит на мир глазами, горящими зелёным огнём.
Тихо-тихо прозвучал у меня в голове его голос:
— Что ты делаешь, Анита?
— Жру.
Реквием сделал какое-то движение бёдрами, и я снова оказалась у себя в голове, в собственной коже. Я знала, что продолжаю отправлять энергию Дамиану, кусочками наслаждения, но снова видела перед собой Реквиема. Его ладони, его руки оплели мне талию, пах прижимался ко мне, кожаное плетение скользило вверх-вниз по моему телу. Он вертел бёдрами, тёрся туда-сюда у меня между ног. И за кожаной преградой я ощущала его, толстый и распухший.
Откинув голову назад, раскидав волосы по сиденью, я видела мир вверх ногами, и тут открылась дверь. Там стоял Грэхем, глядя на меня. Он присел, будто хотел поцеловать меня, но Реквием меня подхватил, отодвинул так, чтобы он не достал. Подложив мне руку под плечи, он приподнял меня, прислонив спиной к спинке сиденья. Вдруг меня плотно зажало между сиденьем и его телом. Напор его стал твёрже, сильнее, грубее. Как будто он распяливал меня все шире своими толчками, сдирал слоями мои интимные места, и наконец плетение кожаных штанов стало тереться о те самые точки — о ту единственную.
Он будто точно знал, что делает, потому что глянул на меня горящими глазами и спросил:
— Это не больно?
— Нет, ещё нет.
Я взяла его за плечи и хотела было утонуть с ним в поцелуе, но он отодвинулся и потёрся об меня — так гладко, так нежно, так грубо. Кожа штанов промокла от моего тела, от той влаги, что он из меня вызвал. Было бы её чуть меньше, было бы больно, но сейчас — нет. Он стал вращать бёдрами, гладя меня пахом, не просто взад-вперёд, но кругами, катаясь по мне снова и снова. Во мне вспыхнула яркая искра наслаждения, и было хорошо, но лучше всего было на пике движения, когда пах Реквиема задевал эту точечку, и искра росла. Росла, будто он раздувал какое-то крошечное пламя. Каждое движение, каждое трение этой кожи, промокшей от моего тела, каждое касание раздувало её ярче и ярче. Как будто у огня был вес, и искра во мне набирала тяжесть, и вот уже каждый раз, когда он тёрся об меня, изнутри обдавало огнём. И наконец вся нижняя часть тела стала жаром и тяжестью, и ничего не было, кроме нарастающего наслаждения, и наконец, на пике одного из этих шероховатых прикосновений, жар и тяжесть хлынули и залили меня всю, вырвались криками изо рта, затанцевали в руках, заставив разорвать на нем рубашку и всадить ногти в обнажённое тело.
И только тогда он так прижался ко мне, что стало почти больно. Так прижался, что я ощутила судороги его тела сквозь кожаные штаны. Руками он держался за спинку сиденья, фиксируя нас обоих на месте, глаза у него были закрыты, а тело так прижимало меня, будто хотело пробиться сквозь штаны и оказаться во мне. Он ещё раз содрогнулся, чуть не раздавливая меня о сиденье, и вырвавшийся у меня крик был наполовину криком наслаждения, наполовину стоном боли.
Вот только тогда был по-настоящему насыщен ardeur. Он получал до того лишь крошки, но совсем не то, что было нужно ему, было нужно мне. Реквием контролировал себя железной волей, и эта железная воля не давала мне чего-то, нужного мне. И только когда он отпустил себя, и все стены рухнули, тогда только ardeur ворвался с рёвом в пролом и насытился.
Реквием свалился на сиденье, все так же стоя на коленях, и так же охватывали его мои ноги, но он уже не прижимал нас обоих. Обмякли его плечи, и он прижался лицом к моим волосам, одной рукой опираясь на сиденье, другой обнимая меня за талию.
Я слышала, как бешено стучит у него сердце, бьётся пульс возле моей щеки, где лежала его шея, тёплая и близкая. Если бы я взяла у него кровь, он бы стал холоднее, но ardeur крови не требует, и ничего не имеет против поделиться теплом с тем, кто его насытил.
Дамиан у меня в голове стал тёплым ветром, и он принёс мне поцелуй.
— Спасибо, Анита, спасибо тебе.
И он отодвинулся, там кто-то касался его руки, брал её в свои. Он позволил отвести себя на танцпол, и я осталась снова одна, только Реквием держал меня.
— Бог ты мой! — ахнул Грэхем, все так же стоя на коленях возле дверцы джипа. — Что ж ты не поделишься, Реквием, что ж ты не поделишься?
Реквием повернул голову — медленно, будто это небольшое движение требовало неимоверного усилия.
— Не принадлежит она мне, чтобы ею делиться.
Грэхем уронил голову на руки, будто собирался зарыдать.
Я заговорила, глядя в грудь Реквиема, где болтались лохмотья разорванной зеленой рубашки и просвечивали красные полосы от моих ногтей. Правый рукав тоже был оторван, и там тоже остались полосы. Я сказала первое, что пришло в голову:
— Я тебе сильно больно сделала?
Он в ответ засмеялся, но вдруг поморщился, будто ему стало больно от смеха.
— Я думал, миледи, это я должен был спросить.
Он сдвинулся с меня, сполз на пол, и получилось, что я сижу на сиденье, а он на коленях передо мной. Почти как было в начале.
Он сдвинулся вниз, сел совсем на пол, прислонившись к дверце — а у противоположной все ещё сидел Грэхем.
— Я не сделал тебе больно? — спросил Реквием
— Пока нет, — ответила я, но уже спадал прилив эндорфинов, и начинало саднить. Вдруг оказалось, что как-то неудобно на кожаных сиденьях.
— Это я тебя исцарапала, — сказала я, — дура неуклюжая.
В конце концов я села так, чтобы опираться на одно бедро.
— Насчёт дуры — я недостаточно хорошо тебя знаю, чтобы иметь своё мнение, но неуклюжая — это ложь. Сколько бы ни было у тебя качеств, неуклюжесть в этот список не войдёт.
— Спасибо за комплимент, хотя я вижу, как тебя отделала.
— Отчего ты просто не снял штаны и не трахнул её? — спросил Грэхем, и на лице его боль читалась явственнее, чем на любом из наших.
— Я ей сказал снять щиты, и она сняла. Она поверила мне, не понимая, на что способна моя сила.
— Ты сказал, что это — вожделение, — произнесла я голосом, куда ленивее обычного, почти что сонным.
— Да, но это не соблазн, которым владеют Ашер и Жан-Клод. А просто — вожделение.
— По ощущению — как несколько часов хорошей любовной прелюдии в один миг. И это было чудесно.