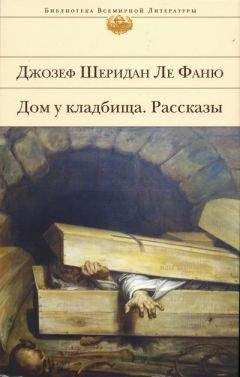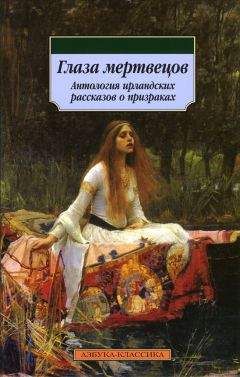Джозеф Ле Фаню - Дом у кладбища
Разумеется, Дик Деврё не посещал больше Вязы. Со всем этим было покончено. Он не видал Лилиас, потому что маленькую Лили взяли под стражу доктора; в полной униформе, с тростями наперевес, они несли вахту у ее дверей. Зима была суровая, и Лилиас нуждалась в заботе и уходе. И Деврё досадовал и терзался; в самом деле, нелегко было вытерпеть эту насмешку судьбы — быть так близко и в то же время так далеко, что невозможно ни увидеться, ни поговорить.
Доктор Уолсингем решился нанести этот краткий визит, после того как генерал Чэттесуорт шепнул ему на ухо несколько слов, когда они прогуливались вместе напротив белого фасада Белмонта; и вот священник взобрался по лестнице и, остановившись на коврике, постучал в дверь Деврё, с печальным видом рассеянно глядя в окно прихожей и все время беззвучно насвистывая.
Доктор был человек мягкий, выдержанный и бесконечно доброжелательный. В отношении выговоров он придерживался доктрины славного мастера Фелтэма. «Человека, — учит он, — проще убедить в доверительной беседе, чем заклеймив его прилюдно. Пусть обличают публично судьи и суды, звездные палаты{158} и сановники в переполненном Холле{159}. Друзья упрекают втайне, там, где нет иных свидетелей, кроме слепых, глухих и немых. Делайте для ближних то, что Иосиф думал сделать для Марии{160}: старайтесь прикрыть их грех. Выговаривать перед толпой — все равно что убивать оленя среди стада: вы не только наносите рану и выпускаете кровь — вы выдаете несчастного его врагам, собакам, и, помимо того, делаете его изгоем среди ему подобных».
Услышав приглашение войти, пастор шагнул через порог, и перед ним во всем своем блеске предстал красавец капитан; те, кто долго его не видел, всегда бывали при встрече поражены: они ведь успевали забыть, насколько он красив — этот стройный юноша, смуглый, с большими, бездонными, фиолетового оттенка глазами, такой необузданный и порочный и в то же время нежный. Капитан застыл от удивления, и на его приветливое лицо набежала мрачная туча.
Гость с хозяином обменялись, однако, поклонами, рукопожатиями и опять поклонами, и каждый выразил готовность покорнейше служить другому; усевшись, они потолковали de generalibus,[49] ибо добрый пастор не привык являться подобно палачу и брать заключенного за глотку; он всегда вел себя как пастух: долго ходил вокруг да около, пока не подступался к отбившейся овце, а затем принимался за ласковые уговоры; он не пытался затянуть заблудшего в стадо на веревке или загнать толчками, а заманивал постепенно, дождавшись подходящего случая. Однако Деврё пребывал не в лучшем настроении. Он полагал, что сватовство его было отвергнуто не без вмешательства доктора, и держался вежливо, но хмуро и холодно.
Глава LXVI
О ТОМ, КАК РАЗРАЗИЛАСЬ ГРОЗА И ЗАТРЯСЛИСЬ НА СТОЛИКЕ У КАПИТАНА ЛОЖКИ И ЧАЙНЫЕ ЧАШКИ И КАК ВНЕЗАПНО СТИХ ВЕТЕР
— Очень рад, сэр, что могу поговорить с вами несколько минут без помех, — сказал доктор и сделал небольшую паузу, и Деврё подумал, что доктор собирается вернуться к его сватовству. — Я не получил ответа на свое последнее письмо, а меня интересует все, что вам известно по поводу этого весьма многообещающего молодого человека, Дэниела Лофтуса, и его в высшей степени любопытных трудов.
— Дэн Лофтус умер и… — тут, я признаюсь в этом с печалью, капитан добавил еще кое-что, — а труды его отправились за ним следом, сэр.
Этот странный молодой человек никак не мог понять, с какой стати доктор вспомнил о Дэне Лофтусе, когда следовало бы обсудить его, капитана Деврё, дела, потому и говорил так раздраженно. И вот, имея все основания полагать, что Дэн Лофтус вполне благополучно пребывает с его «высокородным» недужным кузеном в Малаге, Деврё, ничтоже сумняшеся, отправил Лофтуса, а заодно и его труды, на тот свет.
После этого скандального заявления на несколько секунд установилась полная тишина, а потом Деврё сказал:
— Честно говоря, сэр, не знаю. Предполагается, что он способен присмотреть за моим мудрым кузеном — чтоб он провалился! Стало быть, о самом себе тоже сумеет позаботиться, так что для беспокойства причин нет.
Доктор широко раскрыл свои честные глаза и покраснел. Человек начитанный мыслит глубже прочих, но не быстрее. Подыскивая ответ, доктор успел остыть. Впрочем, он никогда и не давал воли гневу. Если доктор слышал внезапную дерзость, он обычно вскидывал подбородок и заливался легким румянцем — только это и указывало, что он рассержен; в остальном он сохранял душевный мир, не поддаваясь человеческой слабости.
И теперь доктор опустил взгляд на скатерть, где стояли не убранные после завтрака посуда и серебряные приборы, обнаружил там несколько крошек и принялся печально выстраивать их пальцем сначала в ряд, потом в круг и уж не знаю, в каком еще порядке; проделывая это, доктор глубоко вздыхал.
Деврё пребывал в дурном расположении духа. Он был горд и не собирался извиняться. Но, глядя в сторону и не склоняя головы, он выразил надежду, что мисс Лилиас чувствует себя лучше.
Как же, как же, приближалась весна, и пастор знал, что вместе с весной к маленькой Лили возвращается здоровье.
— Она как птичка… как цветок, а зима почти уже прошла. — В речь доктора вплетались, как отголоски сна, красивые слова из Песни Песней, которые так любила читать маленькая Лили: — «Цветы вскоре покажутся на земле, время пения настанет, и голос горлицы послышится в стране нашей»{161}.
— Сэр, — произнес Дик Деврё (голос его звучал странно). — У меня к вам просьба: не окажете ли вы мне одну услугу? Думаю, с учетом всех обстоятельств, я хочу не слишком многого. Если я напишу письмо и передам его вам незапечатанным… письмо, сэр… к мисс Лили… не согласитесь ли вы прочесть ей это письмо вслух или отдать, чтобы она прочитала его сама? Или просто несколько слов… не на бумаге… вы их передадите?
— Капитан Деврё, — проговорил доктор сдержанно, но очень печально, — я должен вам сказать, что моя дорогая девочка очень нездорова. Она была простужена; болезнь, против обыкновения, затянулась — думаю, моя маленькая Лили унаследовала слабое здоровье ее дорогой матери, — и теперь требуется бережное, очень бережное обращение. Но, слава Богу, впереди весна. Да, да, теплый воздух, солнце — и она снова сможет выйти на улицу. Сад, знаете ли, посещения знакомых, небольшие прогулки. Так что я не ропщу и не отчаиваюсь, нет. — Речь его звучала, как обычно, мягко и задумчиво и сопровождалась тяжкими вздохами. — Вы ведь знаете, капитан, я старею, — помолчав, продолжил доктор, — и был бы рад, если бы она обрела доброго и нежного спутника жизни, потому что она — слабый, хрупкий цветок, так мне кажется. Бедная маленькая Лили! Я часто думаю, что она пошла в свою дорогую мать, и я ее всегда холил и лелеял. Она балованное дитя, очень балованное. — Доктор внезапно замолк и подошел к окну. — Если бы ее можно было избаловать, я бы сделал это уже давным-давно, но нет, ее не испортишь. Славная моя маленькая Лили! — Твердо, но в то же время кротко пастор Уолсингем продолжил: — Доктора говорят, что ее нельзя волновать, и я не могу этого допустить, капитан. Ваше послание я ей передал… когда же это было?.. Четыре, нет — пять месяцев назад. Я передал его охотно, потому что был о вас хорошего мнения.