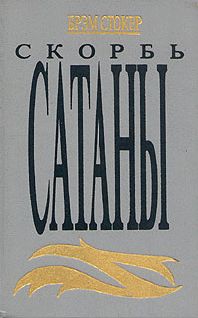Брем Стокер - Скорбь Сатаны (Ад для Джеффри Темпеста)
– Вы верите в Бога! – опять повторил я нерешительно.
– Взгляните! – сказал он, поднимая руку к небу. – Там несколько проносящихся облаков закрывают миллионы миров – непроницаемых, таинственных, однако действительных. Там, внизу – и он указал на море, – скрываются тысячи вещей, природу которых, хотя океан и составляет часть земли, не изучили еще человеческие существа. Между этими высшими и низшими пространствами непонятного, однако Абсолютного, стоите вы, определенный атом ограниченных способностей, не знающий, долго ли продержится слабая нитка вашей жизни, тем не менее высокомерно в вашем бедном мозгу балансирует вопрос: снизойдете ли вы с вашей мелкостью и некомпетентностью признать Бога, или нет? Сознаюсь, что из всех удивительных вещей вселенной это особенное состояние современного человечества более всего удивляет меня!
– Ваше собственное состояние?
– Упорное принятие того ужасного знания, что тяготеет надо мной, – ответил он с мрачной улыбкой. – Я не говорю, что я был добровольным или быстрым учеником; я страдал, изучая то, что я знаю!
– Вы верите в ад? – вдруг спросил я. – И в Сатану, Архиврага человечества?
Он молчал так долго, что я был удивлен; губы его побелели, и странная, почти мертвенная неподвижность его черт придавала им какое-то страшное выражение. После паузы он повернул ко мне свои глаза; напряженная, жгучая горесть отражалась в них, хотя он улыбался.
– Конечно, я верю в ад! Как же может быть иначе, если я верю в небо? Если есть верх, то должен быть и низ. Если есть свет, то также должна быть тьма! И… относительно Архиврага человечества: если половина историй, рассказываемых о нем, верны, то он должен быть самым жалким и достойным сожаления существом в мире! Что были бы скорби тысячи миллионов миров в сравнении со скорбями Сатаны!
– Скорби! – повторил я. – Предполагается, что он чувствует радость, делая зло!
– Ни ангел, ни дьявол не могут этого чувствовать, – сказал он медленно. – Радоваться, делая зло, – это временная мания, которая интересует только человека; чтобы зло вызывало настоящую радость, должен снова возобновиться Хаос.
Он смотрел на темное море. Солнце зашло, и одна бледная звездочка мерцала сквозь облака.
– И я опять скажу: скорби Сатаны! Скорби неизмеримые, как сама вечность. Вообразите их! Быть изгнанным с небес! Слышать сквозь бесконечные сферы отдаленные голоса ангелов, которых однажды он знал и любил! Блуждать среди пустынь темноты и тосковать о небесном свете, который был раньше воздухом и пищей для его существа, – и знать, что человеческая глупость, человеческая жестокость, человеческий эгоизм держат его таким образом в изгнании, отверженным от прощения и мира! Человеческое благородство могло бы поднять заблудщего духа к пределам его потерянных радостей, но человеческая подлость тянет его опять вниз. Муки Сизифа легки по сравнению с муками Сатаны! Неудивительно, что он ненавидит человечество! Мало порицания ему, если он вечно старается уничтожить жалкий род; не диво, что он оспаривает их участие в бессмертии! Думайте об этом, как о легенде.
И он повернулся ко мне почти бешеным движением.
– Христос искупил человека и своим учением показал, как может человек искупить дьявола!
– Я вас не понимаю, – сказал я слабо.
Странная горечь и страстность его тона внушали мне благоговение.
– Вы не понимаете? Однако моя мысль едва ли нелепа! Если бы люди были верны своим бессмертным инстинктам и Богу, который сотворил их; если б они были великодушны, честны, бесстрашны, бескорыстны, правдивы; если б женщины были чисты, мужественны, нежны и любящи – разве вы не можете себе представить, что красоту и силу такого света Люцифер, Сын Утра, любил бы – вместо того, чтобы ненавидеть? Что закрытые двери Рая были бы отперты, и что он, поднявшись к Создателю по молитве чистых существ, опять бы стал носить Ангельский венец? Разве вы не можете понять это, даже путем легендарной истории?
– Ну да, для легендарной истории идея очень красива, – согласился я. – И для меня, как я вам уже сказал раньше, совершенно нова. А так как мужчины никогда не будут честными, или женщины – чистыми, то я боюсь, что у бедного дьявола плохи шансы когда-нибудь достичь искупления!
– Я также боюсь этого! – И он посмотрел на меня со странной усмешкой. – Я очень боюсь, что это так! И, хотя его шансы весьма слабые, я скорее уважаю его за то, что он Архивраг такой недостойной расы!
Он помолчал с минуту, затем прибавил:
– Я дивлюсь, как мы остановились на таком абсурдном предмете разговора? Он скучен и неинтересен, как неизменно скучны все «духовные» темы. Я посоветовал вам предпринять это путешествие не для того, чтобы предаваться психологическим аргументам, но чтобы заставить вас забыть все невзгоды и наслаждаться настоящим, пока оно длится.
Его голос звучал соболезнующей добротой, тотчас же пробудившей во мне острое чувство самосожаления – худшее расслабление моральной силы, какое существует.
Я тяжело вздохнул.
– Правда, я страдал, – сказал я, – больше, чем большинство людей!
– Больше даже, чем большинство миллионеров заслуживает страдать! – заявил он с тем неизбежным оттенком сарказма, которым отличались многие его дружеские замечания. – Предполагается, что деньги вознаграждают человека за все, и даже одна богатая жена ирландского «патриота» не посчитала несообразным удержать при себе свой мешок с золотом, тогда как ее муж был объявлен банкротом. Как она «обожала» его, пусть скажут другие! Теперь, принимая во внимание вашу обильную кассу, выходит, что судьба обошлась с вами несколько немилостиво!
Полужестокая-полукроткая улыбка светилась в его глазах, когда он говорил, и опять меня охватило странное чувство неприязни и страха к нему. А между тем как пленительно было его общество! Я мог только признать, что путешествие с ним в Александрию на борту «Пламени» было всю дорогу очарованием и роскошью. Ничего не оставалось желать в материальном смысле: все, что могли изобрести ум и фантазия, было на этой удивительной яхте, которая неслась по морю, как волшебный корабль. Некоторые из матросов были искусными музыкантами, и в тихие вечера или на закате солнца они приносили струнные инструменты и услаждали наш слух восхитительными мелодиями. Сам Лючио часто пел. Его могучий голос звучал, казалось, над всем видимым морем и небом, с такой страстью, какая могла бы привлечь ангелов вниз, чтобы слушать. Постепенно моя душа начала пропитываться этими отрывками печальных, бешеных или чарующих минорных мотивов, и я безмолвно начал страдать от необъяснимого уныния и предчувствия беды так же, как и от другого тяжелого чувства, которому я едва ли мог дать имя, – ужасной неопределенности себя, точно человек, заблудившийся в дикой пустыне. Я переносил эти пароксизмы нравственной агонии один, и в эти страшные жгучие моменты мне думалось, что я схожу с ума. Я становился более и более угрюмым и молчаливым, и когда мы наконец прибыли в Александрию, я не испытывал особого удовольствия. Место было ново для меня, но я не замечал новизны: все казалось мне скучным, бесцветным и неинтересным. Тяжелое, почти летаргическое оцепенение сковало мои чувства, и когда мы оставили яхту в гавани и отправились в Каир, я был равнодушен к какому-либо личному наслаждению поездкой и не находил интереса в том, что видел.