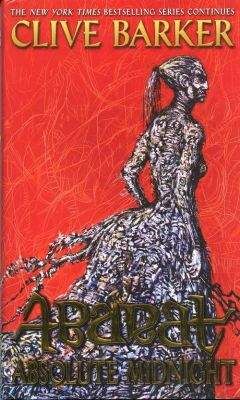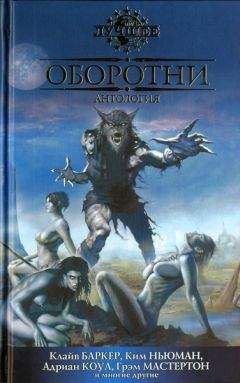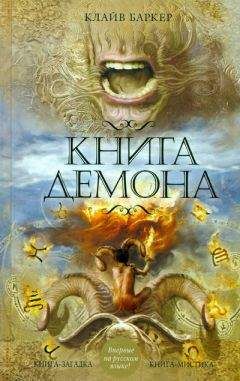Клайв Баркер - Таинство
— А ты видел Стипа? — спросила Фрэнни.
— Потом уже видел.
— Он тебе не угрожал?
— Нет. Вел себя тихо, и вид у него был больной. Я ему почти сочувствовал. Я видел его всего раз.
— А сегодня утром? — спросил Уилл.
— Сегодня утром я его не видел.
— Но ты видел Розу.
— Я ее слышал, но не видел. Она лежала в темноте. И сказала, чтобы я уходил.
— Как она говорила?
— Слабым голосом. Но не похожим на голос умирающей. Она бы попросила меня о помощи, если бы умирала.
— Но не в том случае, если бы понимала, что уже слишком поздно, — сказал Уилл.
— Не говори так, — оборвал его Шервуд. — Ты две минуты назад сказал, что мы можем ей помочь.
— Я ни в чем не могу быть уверен, пока не увижу ее, — ответил Уилл.
— Где она, Шер? — спросила Фрэнни.
Шервуд снова смотрел в пол.
— Да бога ради, ничего мы ей не сделаем. Ну, в чем дело?
— Я… просто… ни с кем не хочу ее делить, — тихо проговорил Шервуд. — Она была моей маленькой тайной. Мне хочется, чтобы так и оставалось.
— Значит, пусть она умирает, — раздраженно сказал Уилл. — Ты ведь ни с кем не хочешь ее делить. Хочешь, чтобы она умерла?
Шервуд отрицательно покачал головой.
— Нет, — пробормотал он и добавил еще тише: — Я провожу вас к ней.
XII
Счастье всегда вызывало у Джекоба желание испытать нечто противоположное. Пребывая в блаженном состоянии после очередной удачной резни, Стип неизменно отправлялся в какой-нибудь культурный центр, чтобы посмотреть трагедию, а еще лучше — оперу, чтобы всколыхнуть те чувства, которые он обычно держал под спудом. Затем он предавался страстям, как: излечившийся алкоголик, оставленный среди бочек бренди, запах которого он вдыхает до беспамятства.
Но, в отличие от счастья, отчаяние требовало чего-то подобного. Когда он, как теперь, был поглощен этим чувством, его природа толкала Стипа на поиски чего-то похожего. Другие искали для ран исцеления. А он хотел одного: натирать их солью снова и снова.
До этого дня у него под рукой всегда было целебное средство. Когда отчаяние становилось невыносимым, Роза отводила его от края пропасти и восстанавливала равновесие. Чаще всего ее лекарством был секс — сиськи-письки, как она это называла в игривом настроении. Но сегодня Роза сама была причиной его отчаяния. Она умирала от его руки, и рана оказалась слишком глубока — неисцелима. Он уложил ее в темноте ветхого домишки и, по ее просьбе, оставил одну.
— Я не хочу, чтобы ты был рядом, — сказала она. — Убирайся с глаз моих.
И он ушел. Прочь из деревни, вверх по склону холма. Он искал место, где его отчаяние усилится. Ноги сами знали, куда его нести: в рощу, где этот проклятый мальчишка показывал ему видения. Стип знал: там он найдет пищу для своего отчаяния. Как он жалел, что его нога ступила когда-то на этот клочок земли — не было на планете другого места, которое вызывало у него такое горькое чувство. Задним умом он понимал: первая его ошибка заключалась в том, что он дал нож Уиллу. А вторая? В том, что он не убил мальчишку, когда понял, что тот — проводник. Что за странное сочувствие снизошло на него в ту ночь — отпустил этого выродка живым, зная, что голова Уилла наполнена украденными воспоминаниями?
Но даже и эта глупость не стоила бы ему так дорого, если б мальчишка не вырос гомосеком. А тот взял и вырос. А поскольку его не волновала проблема продолжения рода, он стал куда более сильным врагом… нет, не врагом, чем-то позамысловатее… Вот если бы он женился и стал отцом… Стип всегда чувствовал себя неловко в компании гомосексуалистов, но при этом испытывал к ним, почти против воли, симпатию. Как и он, они вынуждены сочинять самих себя, как и он, они поглядывали на свое племя словно со стороны. Но он бы с удовольствием посмотрел на уничтожение всего клана, если б это могло воспрепятствовать его встрече с Уиллом.
В пятидесяти ярдах перед рощей он остановился и, оторвав взгляд от ботинок, огляделся. Приближалась осень, он ощущал в воздухе ее ранящий дух. В это время года он часто уходил гулять, прерывая свои труды на неделю-другую, чтобы обследовать английскую глубинку. Невзирая на экономические бедствия, страна хранила свои святыни — путнику нужно лишь смотреть во все глаза. Он долгие годы бродил по Англии из конца в конец, общаясь с духами еретиков и поэтов; ходил прямыми дорогами, по которым ушли последователи Бёме,[30] и слышал, как они саму землю называют ликом Божьим; он слонялся по Малверн-Хиллс, где Ленгленду было видение о Петре-пахаре;[31] шагал по склонам курганов, где в усыпальницах из земли и бронзы покоились языческие вожди. Не у всех этих мест было благородное прошлое. Некоторые имели скорбную историю. Поля и рощи, где верующие умирали за Христа. Алдхам-Коммон, где был сожжен Роуланд Тейлор, добрый приходской священник из Хадлея,[32] его костер сложили из веток живой изгороди, которая все еще зеленела здесь. И Колчестер, где дюжина или более душ были сожжены в одном костре за грех молитвы. Бывал он и в менее известных местах, которые нашел только потому, что слушал внимательно, как муха у рта умирающего. В местах, где неизвестные мужчины и женщины погибли из-за любви или за веру. Или за то и другое. Он часто завидовал мертвецам. Стоя как-то в сентябре на вспаханном поле и слушая карканье ворон из крон худосочных деревьев, он подумал о простодушии тех, чей прах смешан с грязью, прилипшей к его ботинкам, и пожалел, что не родился с более незатейливым сердцем.
Он больше не посетит эти места — ни этой осенью и никогда. Его жизнь, курьезный пример стабильности, менялась — с каждым днем, с каждым часом. Он, конечно, заткнет рот Рабджонсу, но это не исправит положения. Роза все равно умрет, а он останется один на один со своим отчаянием и станет погружаться в него все глубже и глубже. А поскольку уже никто не сможет замедлить это падение, он остановится лишь тогда, когда падать дальше будет некуда. И тогда он погибнет, скорее всего от своей собственной руки, и его видение мертвой земли будет передано в другие, менее достойные руки.
«Это не имеет значения», — подумал он, снова зашагав в сторону рощи.
Многие люди служили тем же идеалам, хотя и не подозревали об этом. Он в свое время имел сомнительное удовольствие встречаться с целым сонмом таких людей. Среди них было несколько спятивших военных, множество душевнобольных, несколько человек, точно знавших, как называется творимое ими зло и просто получавших от этого удовольствие. Но большинство — и говорить с ними было куда интереснее, чем с остальными, — ни в коей мере не были жестокими лично, они сидели в своих офисах, словно вежливые бухгалтеры, организуя погромы и этнические чистки в фискальных и политических целях. У них могли быть разные характеры, но все они были его союзники и, ведомые амбициями, являлись истребителями видов в той же мере, что и он. Одни делали это ради прибыли, другие — во имя свободы, третьи — просто потому, что могли это делать. Их причины по большому счету его не волновали. Важны были не причины, а последствия. Он хотел, чтобы мир пришел в упадок, чтобы семья вымирала за семьей, племя за племенем, от огромных до крохотных, и для достижения этой цели всегда были нужны автократы и технократы. Но если они оказывались неразборчивы в средствах, грубы и часто не осознавали, какой ущерб наносят, он вел свою борьбу против жизни с величайшей точностью: изучал жертвы, как наемный убийца, знакомился с их привычками и убежищами. Из тех, кого он приговаривал к смерти, спастись удавалось немногим. Он не знал чувства получше того, которое испытывал, сидя рядом с жертвой, записывая в дневник подробности ее смерти и зная, что, когда тлен сожрет труп, только у него останется свидетельство того, как канул в вечность этот вид.