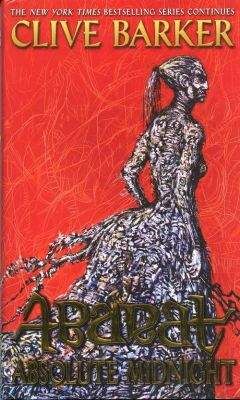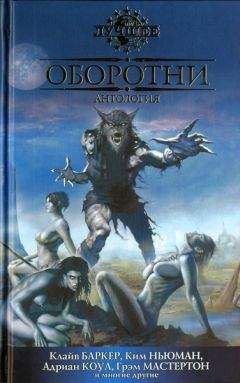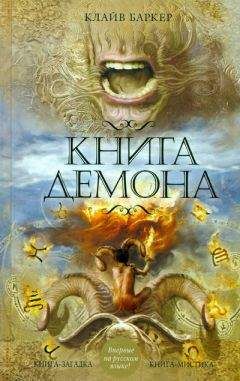Клайв Баркер - Таинство
Книга! Да, он будет думать о книге, которую сможет написать, когда освободится от этой женщины. Книга, которая затронет души людей и изменит их. Что-нибудь исповедническое, может быть, написанное со свойственным ему сарказмом. Что-нибудь острое и язвительное, как можно более далекое от этой сладкой песенки. Он напишет правду: о Сартре, об Элеонор, о Натаниэле…
«Нет, не о Натаниэле. Не хочу думать о Натаниэле».
Но было слишком поздно. Образ Натаниэля появился перед его мысленным взором, а вместе с ним — колыбельная, полная сладкой грусти. Слов он до конца не понимал, но суть была ясна. Это были слова утешения, они предлагали закрыть глаза и перенестись отсюда в страну за границами сна, куда отправляются играть все дети мира.
Его веки так отяжелели, что он смотрел сквозь щелочки. Но все же ему был виден Стип, который наблюдал за ним от изножья кровати и ждал, ждал…
«Я не доставлю тебе этого удовольствия — не умру», — подумал Хьюго.
И с этой мыслью перевел взгляд на любовницу Стипа. Ее лица он не смог увидеть, но чувствовал полноту ее груди рядом со своей головой и все еще отваживался питать надежду. Он будет трахать ее в своем воображении, да, именно этим он и займется: преградит своей эрекцией дорогу смерти. Он разденет эту женщину мысленным взором, уложит ее, она будет рыдать под его напором, пока горло ее не начнет так саднить, что она не сможет петь колыбельную. Он начал двигать бедрами под одеялом.
Она перестала петь.
— Ну… — пробормотала она, — что же ты делаешь?
Она сдвинула в сторону блузку и обнажила грудь, ублажая его. Его непослушный рот принялся искать ее сосок, нашел и вобрал в себя. Ее рука отправилась под простыни, под резинку его пижамных штанов и нежно прикоснулась к нему. Он вздрогнул. Он совсем не это планировал. Совсем не это. Он все еще был ребенком, невзирая на то, что она ласкала, все еще младенцем, растекался в ее объятиях, как масло.
Какую-нибудь другую историю! Быстро. Он должен родить какую-нибудь высокую и взрослую мысль, чтобы ускорить биение своего сердца. Иначе все кончится. Этика? Нет, не годится. Холокост? Нет. Демократия, справедливость, крушение цивилизации? Нет, нет, нет. Не было ничего достаточно мрачного и великого, чтобы спасти его от этой груди, от ласкающих пальцев, от легкости, с какой он лежит здесь, позволяя сну забирать его в темноту. Он услышал, как сердце колотится у него в висках. Чувствовал, как сгущается и замедляется кровь в жилах. Но ничего не мог с собой поделать. Да и не хотел. Веки дрогнули и закрылись, губы потеряли сосок, и он полетел вниз, вниз, вниз, и летел, пока дальше уже некуда было падать.
IX
Уилла разбудил телефонный звонок, но к тому времени, когда он вырвался из объятий сна, звонок прекратился. Он сел в кровати, нашарил часы — начало пятого. Прислушался: что-то говорила Адель, он не уловил слов, которые перешли в рыдания. Включив лампу, он нашел нижнее белье, натянул его и вышел на лестницу, когда она уже вешала трубку. Он знал, что она скажет, еще до того, как Адель повернула к нему заплаканное лицо. Хьюго умер.
Если это может их немного утешить, сказал дежурный врач, когда они вошли в больницу, то умер он спокойно, во сне. Вероятно, сердечная недостаточность — что поделаешь, человек его лет, после такого избиения. Но завтра они скажут точно. А пока не хотят ли они взглянуть на него?
— Конечно, я хочу его увидеть, — сказала Адель, вцепившись в руку Уилла.
Хьюго все еще оставался в кровати, там, где разговаривал с ними двенадцать часов назад, под голову ему подложили подушку, борода лежала на груди, как вязаное полотенце.
— Ты должен попрощаться первым, — сказала Адель, пропуская Уилла вперед.
Сказать ему было нечего, но он все равно подошел к телу. Во всей этой сцене было что-то искусственное: простыня разглажена слишком ровно, тело лежит слишком симметрично, так почему бы и ему не сыграть роль? Не склонить голову, не изобразить скорбь? Но он, стоя там и глядя на руки с маникюром и вены на веках, чувствовал только презрение, исходившее от этого человека все прошедшие годы, пренебрежение и отвращение. Он больше никогда этого не услышит, но и не будет искать способы избежать, и понемногу это станет источником боли.
— Вот и все, — сказал он вполголоса.
Даже теперь, понимая всю нелепость таких ожиданий, он опасался, что отец откроет лукавый глаз и назовет его идиотом. Но Хьюго ушел туда, куда уходят печальные отцы, и оставил сына наедине с его смятением.
— Прощай, па, — пробормотал Уилл и, отвернувшись, пропустил Адель на свое место.
— Хотите, чтобы я остался с вами? — спросил он ее.
— Я бы лучше побыла одна, если не возражаешь. Хотела бы сказать несколько слов — между им и мной.
Уилл оставил ее, спрашивая себя, что же Адель скажет, когда он выйдет. Будут ли это слезливые признания в любви, теперь ничем не скованные, когда можно не опасаться его окрика? Или просто тихий разговор: она возьмет его руку и мягко упрекнет за то, что он ушел так неожиданно, поцелуй в щеку и слово прощания? Мысли об этом тронули его гораздо сильнее, чем вид мертвого тела. Преданная Адель, шепчущая на руинах, Адель, которая на исходе жизни прилепилась к отцу, сделав его удобство целью своей жизни, а его привязанность к ней — подтверждением правильности ее действий.
Предположив, что она задержится у Хьюго, он не пошел на ярко освещенную парковку, а направился к боковой двери, выходившей в скромный больничный сад. Там было достаточно света, который проливался из окон, и он без труда нашел дорогу к скамейке под деревом, на которую и сел, намереваясь немного поразмышлять. Прошло несколько минут, и он услышал какое-то движение в кроне. Потом несколько осторожных трелей — птицы торопили приход дня. На востоке появился тончайший лоскут холодного серого цвета. Уилл смотрел на него, как смотрит на минутную стрелку часов ребенок, чтобы заметить ее движение, но каждый раз стрелка крохотными приращениями обманывает глаз. Вокруг было и еще кое-что. Розовые кусты и гортензии, стена, поросшая плющом; темнота оставалась еще слишком густой, и он не смог разглядеть раскраску цветов. Но с каждой минутой все становилось светлее, словно снимок, проявлявшийся в ванночке, и он стал понемногу различать тона. В какой-нибудь другой день это могло бы захватить Уилла с его зрением, жадным до зрелищ. Но сейчас он не находил удовольствия ни в цветах, ни в зарождающемся дне.
— И что теперь?
Он посмотрел в направлении голоса. У поросшей плющом стены стоял человек. Нет, не человек — Стип.
— Он мертв, и теперь ты никогда не помиришься с ним, — сказал Стип. — Я знаю… ты заслуживаешь лучшего. Он должен был любить тебя, но не мог найти любовь в своем сердце.