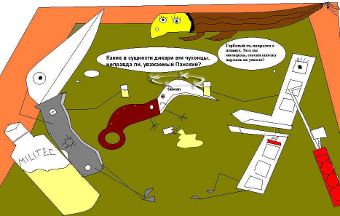Алексей Атеев - Код розенкрейцеров
Получив, так сказать, афронт, горячий аспирант мгновенно успокоился и присмирел. Гнев еще бурлил в нем, но нашатырный спирт в сочетании с увесистым кулаком взывал к осторожности. Поэтому Егор только скрипел зубами, но и этот звук производил на близких достаточно сильное впечатление.
– Мама, я боюсь! – шептала дочь.
– Не трусь, Катька, – успокаивал ее братишка. – Я снова Анисью Трофимовну позову, если он…
– Тише! – одернула детей Людмила. – Прекратите эти глупые речи. Сейчас мы его уложим спать, а завтра он снова станет прежним папой.
– Ненавижу, ненавижу! – угрожающе шипел Егор, однако покорно позволил довести себя до кровати и уложить.
Пробуждение принесло невыносимые страдания. Олегов открыл глаза и прислушался. В доме царила полнейшая тишина. Он застонал и спустил ноги с кровати. Голова раскалывалась, мучительно хотелось пить.
– Воды, – чуть слышно произнес он пересохшими губами. Получилось нечто невнятное. – Воды, – повторил он более отчетливо. Но никто не откликнулся, не подал умирающему от жажды кружку с водой.
Олегов кое-как поднялся, нетвердой походкой доплелся до стола. Он был пуст, только посредине лежал лист бумаги, на котором было что-то написано. Олегов подался в сени, где, как он помнил, стояло ведро с водой, зачерпнул полный ковш и пил, пил до изнеможения. Мысли стали проясняться. Он вдруг вспомнил, что вчера вытворял. Не все, конечно, а лишь отдельные фрагменты. Наиболее отчетливо в памяти зафиксировался плач дочери. Он напряг мозги. Ребенок, точно, плакал и кричал: «Папа, папа, что ты делаешь?!» А что он делал? Кажется, пытался драться. А потом?.. В сознании всплыли какие-то неясные образы… Что-то такое, в высшей степени омерзительное. Он вернулся в дом, взял записку и стал читать:
«Вчера ты вел себя безобразно, – писала жена. – Я даже не знала, что ты на такое способен. И, что хуже всего, дети все видели. Такой отец нам не нужен. Мы уезжаем домой, а ты живи здесь и пей сколько угодно».
– Как, живи здесь?! – недоуменно сказал Егор. – Что происходит?
Он скомкал записку, швырнул ее в угол… Этого просто не может быть! Как же так?!
Олегов, несмотря на упадок сил, выскочил во двор и стал лихорадочно озираться, но и здесь было пусто.
«Пугают, – соображал он, – или правда?» Спросить хозяйку, но и с хозяйкой были связаны какие-то неприятные моменты. Это он помнил. И все-таки ничего не оставалось, как пойти к ней на поклон.
– Анисья Трофимовна? – позвал он, увидев, что хозяйка копается в огороде.
– А-а, золотой, – хозяйка подняла голову и насмешливо посмотрела на Егора, – проспался?
Он кивнул.
– А похмелиться не хочешь?
– Нет-нет! – замахал руками Егор. – Что вы! А где мои?
– Похмелиться тебе нужно обязательно, – со знанием дела сказала хозяйка, – иначе сердце можно надорвать. Жила там лопнет, и каюк! С похмелья всегда жила натянута, поэтому и сердце трепещет, а выпьешь граммульку – и отпустит. Давай бражки налью? Ты же вроде охотник до бражки?
Как только Анисья Трофимовна произнесла проклятое слово «бражка», Егор сразу все вспомнил: и свои вопли с требованием рокового напитка, и последующее избиение, и нашатырь… Это было ужасно!
– Я вчера, кажется… – смущенно начал он.
– И хорош же ты, золотой, был, – подтвердила хозяйка. – Прямо не ожидала. Изверг рода человеческого. Страшно смотреть было. Я думала, всех перекалечишь. – В голосе Анисьи Трофимовны звучал откровенный сарказм. – Так что прими, враз полегчает. А твои-то, – она махнула рукой в направлении станции, – ушли они, золотой. Люда сказала – домой, мол, поехали. От него, изверга, подальше. А то, что видят дети? И, знаешь, золотой, она права. Непотребство-то, оно и есть непотребство. Погоди, сейчас…
– О-о! – завыл Егор.
Вернулась хозяйка, держа в руках полулитровую банку с мутной жидкостью.
– Давай, – сунула она банку в руку Егору. – И выть не стоит. С каждым мужиком такое-то случалось. И вашего брата понять можно. От скуки все, от безделья…
– Что же делать?! – стонал Егор. – Что делать?!
– А выпить, – просто сказала разумная женщина.
И Егор подчинился. Он с отвращением начал пить вонючую теплую жидкость.
– До конца, – заявила Анисья Трофимовна.
Егор из последних сил допил. В голове его сразу же зашумело, приятная слабость растеклась по телу, на душе как будто полегчало.
– Пока хватит, – заключила многомудрая хозяйка, – иди погуляй по лесочку, подыши воздухом. Расходиться тебе нужно. Поскачешь, попрыгаешь и в норму войдешь. Ты, наверное, есть хочешь?
Егор отрицательно замотал головой.
– Ну, как знаешь. А захочешь, приходи. Я тебя накормлю.
– Но семья моя, дети…
– Не убивайся ты так. Вернутся они, я думаю, вернутся. Я уж твоей Людке говорю: с каждым может случиться; что он – не мужик?! Такая, мол, бабья доля – прощать и сопли утирать.
– А она? – с надеждой спросил Егор.
– А что она? Плачет.
Олегов обхватил голову руками.
– Иди, золотой, иди!
И Егор пошел куда глаза глядят.
Вначале он поболтался вокруг станции в надежде, что жена просто морочит ему голову и никуда не уехала. Но на станции в этот час было совершенно пусто. Пригородные поезда идут в основном утром и вечером, а товарные – хоть и круглые сутки, но интереса у населения не вызывают. Разве что у шпионов. Но и шпионов на станции не наблюдалось. Олегов потерянно бродил по насыпи, потом зашел в помещение станции, где тоже никого не было. Он постучал в окно кассы, дождался, пока кассирша открыла, и спросил:
– Скажите, пожалуйста, молодая женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой, сегодня брала билеты в город?
Кассирша усмехнулась, и Егор понял, что про его вчерашнюю выходку уже известно всему поселку.
– Брала, милок, брала, – ехидно сказала кассирша. – Да и как же ей, бедолаге, не брать.
Сгорая со стыда, Егор бросился прочь, действие бражки хотя и сказывалось, но отнюдь не снимало чувства вины.
«Повеситься, что ли, – в отчаянии думал аспирант, – на ближайшей осине. Тогда она будет знать». Богатое воображение историка мгновенно выдало соответствующую картину: он лежит в простом деревянном, даже не обитом кумачом гробу во дворе своей дачи. Лицо бледное, глаза закрыты, на веках почему-то лежат громадные пятаки. На щеках, как у Есенина, еще видны следы слез. Да, он рыдал! Вокруг гроба толпятся односельчане, путейские рабочие в замасленных ватниках, начальник станции в фуражке с красным околышем. У изголовья, словно скорбный ангел смерти, возвышается Анисья Трофимовна, и тут же любимая и одновременно ненавистная Людмила заламывает руки в неизбывной тоске… Вот так-то, милая! Допрыгалась!
Мысль о самоубийстве была невероятно привлекательна, но неосуществима. Товарищ Олегов хотел жить.