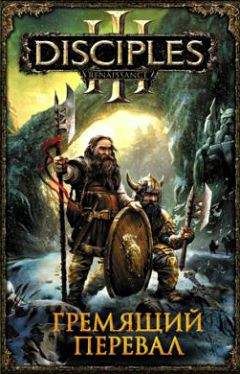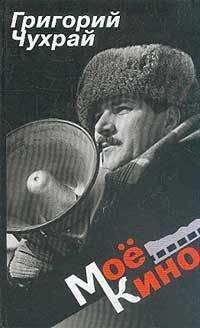Сьюзан О'Киф - Чудовище Франкенштейна
На ее прекрасных чертах отразились изумление, ужас, страх, а затем отчаяние, будто она произвела на свет невинное дитя, которому предстояло жить с такими, как я. А еще я увидел первобытную ненависть ко всему чужому. Эта ненависть выплеснулась и обожгла меня даже сквозь кирпичи.
Рот женщины был открыт: из него донесся резкий задыхающийся звук, а затем она наконец обрела дар речи. В этом безумном мучительном вопле я расслышал крики всех тех, кто вечно меня отвергал.
Просунув руку в отверстие и попутно его расширив, я схватил ее за горло. Ее тело дернулось, словно марионетка, и она стала задыхаться. Лучио умолял рассказать, что случилось. Он нежно ощупывал ее вырывающееся тело в поисках увечий. С потрясенным лицом он дотронулся сначала до огромной руки, а затем до гигантской ладони на шее жены. Он тоже заорал и ударил меня, пытаясь ослабить мою хватку.
Женщина обмякла, и я уронил ее на мужа. Его руки тотчас обвили ее. Она слабо кашлянула, и он защитил ее своей грудью: его потное тощее тело облепили соломинки. В эту минуту моя жалобная тоска сменилась яростью, и я возненавидел его. В своей наготе он предстал таким, каким его видели аристократы: паразитом, отбросом общества. Его жена была ничуть не лучше, но все же завопила при виде меня.
Какое еще смертельное зло я мог им причинить? Мой взгляд упал на младенца, завернутого в тряпки и лежавшего в дальнем углу. Я мог бы украсть их ребенка и подарить его Мирабелле. Тогда бы мы жили втроем: чудовище, немая и похищенное дитя — гротескная пародия на семейное счастье.
Почуяв новую угрозу, женщина указала пальцем в угол и прошептала:
— Рафаэль.
Лучио пополз к младенцу, нашел его и прижал к груди, вращая слепыми глазами.
— Малыш цел, — сказал он. — Что стряслось? Кто здесь?
— Жуткая тварь — словно ожившая каменная горгулья, — хрипло прошептала жена и заплакала.
Не в силах больше слушать, я ушел. Когда я вернулся, Мирабелла уже спала.
12 мая
Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы
предо мною, и все члены мои, как тень.
Гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя и
сестра моя. Где же после этого надежда моя?[2]
Ждем света, и вот тьма, озарения — и ходим во мраке.
Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим
ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки,
между живыми — как мертвые.[3]
13 мая
Когда я проснулся утром, Мирабеллы не было. Меня охватил безрассудный гнев. Я рвал тряпки, которые она использовала вместо подушки, топтал цветы, сорванные ею на улице, в пыль давил черепки, которыми она украсила жилище. Все эти мелкие бесчинства не утолили моей ярости, с громогласным ревом я подобрал с пола ржавый колокол и швырнул его в стену. Он так оглушительно загудел, что у меня заложило уши.
Мне хотелось разбить колокол вдребезги, сровнять звонницу с землей. В отчаянии я бегал по кругу, не зная, за что бы еще ухватиться.
Мирабелла стояла в дверном проеме.
— Где ты была? — спросил я, в ладонях пульсировала кровь.
Она показала на деревянный стол у себя за спиной — старый, но с красивой фанерной столешницей. Хотя у него нет одной ножки, если поставить в угол, он будет казаться устойчивым. Мирабелле пришлось встать спозаранку, чтобы завладеть этой уличной добычей раньше других.
Ее бесстрастный взгляд довершил то, чему не помог даже полный разгром нашего временного жилища: погасил страсть, затуманившую мой рассудок. В изнеможении я опустился на пол и закрыл руками лицо.
— Я думал, ты ушла.
Ощупывая шрам на шее, она, похоже, сравнивала свое прежнее положение с нынешним — обычное насилие с возможностью безудержного насилия. Не в силах читать эти мысли на ее лице, я потупил взор. Вскоре послышались быстрые шаги. Сперва я решил, что она собирает то, что еще можно взять с собой, но потом понял, что она лишь пытается навести порядок. Прошло много времени, прежде чем ее шаги стихли, и я поднял глаза. По ее бледным щекам текли слезы, и в обеих руках она стискивала тряпки, которые я раскидал. Она ткнула в меня этими сжатыми кулаками: мол, нет смысла убирать и нет смысла оставаться, но нет смысла и уходить.
14 мая
Утром еда и питье снова кончились, пришлось выйти и просить подаяния.
Перед уходом я сказал Мирабелле: я хочу, чтобы она осталась со мной, но если она решит уйти, я не стану удерживать ее силой. В отличие от первого раза, я не шпионил, чтобы узнать о ее решении.
Я не мог вернуться во двор Палаццо или на Пьяццетту. Хотя между мной и чудовищем в доме Лучио не было прямой связи, было бы тяжело услышать из уст друга собственное описание, ведь его, наверное, уже пересказывает пол-Венеции. Вместо этого я бесцельно бродил по разным улицам и попрошайничал, пока не нашел подходящее место. Оно располагалось под осыпающимся фасадом с горгульями — гротескной деталью венецианского пейзажа, с которой сравнила меня жена Лучио.
Я сидел молча, поставив у ног кружку. Я не разговаривал и не поднимал голову, скрытую капюшоном, даже когда на меня пялились дольше обычного. Наверное, моя безмолвная фигура вызывала жалость, и вскоре мне набросали достаточно монет. Я купил хлеба и поспешил обратно в звонницу.
Мирабелла осталась.
Позже
Ближе к ночи Мирабелла вынула шпильки из волос и распустила их. Возможно, она поступала так каждый вечер, с тех пор как я спас ее, но сегодня я увидел это впервые. Поняв, что она собирается сделать, я усадил ее у неяркого костра — точно так же сидела жена Лучио.
Волосы Мирабеллы заблестели в отсветах пламени, окружив ее ореолом червонного золота. Растопырив пальцы, она опустила волосы на лицо тонкой вуалью, а затем откинула их на плечи. Одежда натянулась на ее пышной груди и стройной талии, она старательно расчесывалась, откидывая пряди назад. Жесты были невинны, но при этом искусны и хорошо продуманы: мои мысли унеслись туда, куда их никто не зазывал прежде.
Лишь один раз за мою короткую жизнь я мог обрести подлинного друга. Много лет назад я упросил отца подарить мне спутницу. Сначала отказавшись, в конце концов он смягчился и удалился на Оркнейские острова. Он не знал, хотя наверняка догадывался, что я следовал за ним по пятам от его дома в Женеве до Страсбурга. Затем я перебирался от одного убежища к другому, пока его лодка скользила по водам Рейна мимо островков, зубчатых холмов и разрушенных замков. В Роттердаме он сел на корабль до Лондона, где задержался почти на пять месяцев, пока не упаковал все свои ящики с медицинским и химическим оборудованием, а затем отправился на север.