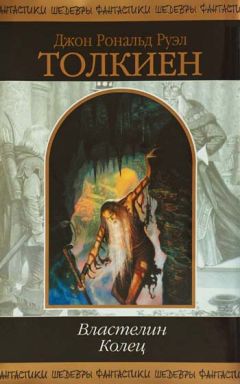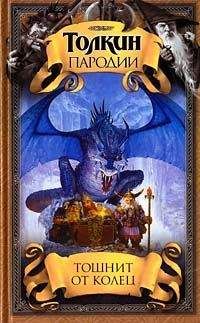Владимир Хлумов - Мастер дымных колец
— Вызовите скорую.
Путеец равнодушно цыкнул зубом, испытующе посмотрел на гостя, и как бы делая одолжение, бросил:
— И скорую, и пожарную, и органы — всех призвал.
— Стрелочник? — почти уверенный в своей догадке, коротко спросил злой гражданин.
— Лесоруб-путеец, — дорожный человек нагло ухмыльнулся и добавил: шестого разряда.
Варфоломеев внимательно посмотрел на топор, потом повернул голову, пытаясь оценить истинные размеры кактусовых зарослей, уходящих поперек дороги в обе стороны за горизонт. Там, вдали, может быть, в полукилометре отсюда он заметил шоссе, где уже появились яркие вспышки аварийной колонны.
— До города далеко?
— Так здесь и есть город, — путеец удивился. — В городе мы уже, приехали. Ма-а-сква, товарищ.
19
Удивительная ясность, четкая, прозрачная, математическая, наступила в голове Сергея Петровича. Под вой сирен, под рев автомобильных двигателей, под короткие, как выстрелы, приказы командиров пожарных отделений он незаметно проскочил через дворик сторожки за ограду, на открытое глинистое пространство. Взбежал на пригорок, оглянулся по сторонам и понял: будет жара. Будет пекло, но не тягучее и приторное, а здоровое, бодрящее, с неизбежными освежительными перерывами. Вдали справа, как геодезический знак, сверкал шпиль университета, левее, на этой стороне Сетуни, возвышался ржавый скелет гигантского купола. Между ними — низкое нежилое пространство, поросшее то здесь то там жидким кустарником, изрезанное кривым речным руслом. Очевидно, нужно пробираться пешком. Он догадался, чуть напрягая прогретый солнечным пеклом лоб, — в транспорте могут узнать. По снимкам, по фотороботам, приклеенным на стеклах у касс, на холодных мраморных колоннах при входах и выходах, в салонах, тоннелях, переходах. Быстрым шагом, но без суеты, он двинулся дальше навстречу столичному солнцу. Все ясно. Либо сегодня, либо никогда. Он должен, он обязан совершить наконец то, что еще вчера рассматривалось гипотетически, потенциально, с множеством оговорок, с усмешкой, как бы в шутку. Какие уж тут шутки. Если с утра катастрофа, и обычный ежедневный поезд врезается в кактусовый лес, если в сторожке, где он оставил Чирвякина, у пульта связи висит его личная физиономия, если просто так, от чепухи, от того, чего не бывает, гибнут его однокашники, — значит, он обязан! До асфальта метров восемьсот по прямой, но по прямой он не пойдет. Нужно прибавить шагу, иначе ударит первый ливень, развезет дороги, и тогда отвратительная розовая глина уничтожит трение, смертельно необходимое в его положении.
Что же, она хотела этого, теперь того же желает и он. Пройти двадцать километров, чтобы упереться в стену — это ли не подвиг, достойный звездного капитана. Стена, конечно, существует, как существует, а может быть, даже и живет — ведь он видел белое молочко на стекле, — колючее растение. Немного удалившись от полотна, тропинка снова вывела его обратно. Запахло смоленым черным деревом, железом и отбросами с проходящих составов. Он перескочил через канавку, заполненную вчерашним дождем, и спотыкаясь, словно школьник, принялся считать шпалы.
Позади осталась платформа Матвеевская. Он ее не видел, но определенно знал, что обошел. Теперь солнце жарило в правый висок и думать стало еще легче. Например, Сергей Петрович догадался — идти можно, не оглядываясь. Оттуда, с кольцевой, поезд подадут не скоро. Минимум часов через шесть. Он улыбнулся. Он выбрал правильный путь. Здесь намного безопаснее, чем на Можайском. Тот путь короче, но здесь спокойнее. Лишь бы успеть до первого дождя. Над головой сухим электрическим разрядом звенят провода. А может, это жаворонок звенит в зените? Так наступает безвременье. Впрочем, откуда? Если бы он воспользовался своей волшебной машиной, тогда другое дело… Нет, нет, время еще осталось, его слышно по шуршанию гравия, его можно измерить, сосчитать по шпалам, по столбам. Шпалы — это его секунды, столбы — минуты, часы… Часы? А, черт с ними, с часами, все равно антиквариат. Он улыбнулся собственному каламбуру. Впереди показался двойной мост, для каждого направления своя отдельная часть, узкая, длиной метров пятьдесят, сугубо транспортная, то есть безо всяких приспособлений для пешехода. Хм, хмыкнул Сергей Петрович, как же они тут ходят в обычное время. Он профессионально прикинул вероятность попадания под поезд в момент перебегания через мост. Получилась одна десятая. Одна десятая — это многовато для одной человеческой жизни, даже для какой-нибудь бестолковой, бессмысленной. А в его случае, когда наконец появилась цель длиной в двадцать километров, одна десятая — слишком большое число. Конечно, двадцать километров это не квадрильон, но в реальных условиях, в условиях пешей ходьбы по миллионному городу, пожалуй, будет похлеще квадрильона. Ведь он сам выбрал эти двадцать километров взамен райского бессмертия в розовых покоях. Он почти герой. Пожертвовал хорошим самочувствием на освобожденном от бальтазаровских зачетов времени ради нее. И теперь идет ради нее, думает — ради истины, ради понимания устройства государственной машины, но на самом-то деле исключительно ради нее. Он мог бы явиться к ней этаким бессмертным чудищем, отцом, и сыном, и святым духом одновременно, сказать: я есмь запредельное существо, повелитель пустотных полей, люби меня. Но не стал. Пришел обычным, болезненным, смертным телом, чтобы самому жалеть и сочувствовать, чтобы не подвергать, но подвергаться, чтобы идти сейчас по пересеченной местности пешком, полагаясь только на себя, на свои ноги, на свою голову. И вот он топчется сейчас у моста, выбирая один из двух путей. Он подозревал, что аварией дело не кончится. Он уверен — будут еще испытания, на то он и есть свободный поиск.
Неизвестно, как долго он выбирал, ведь по его часам время остановилось. Наконец двинулся прежней колеей. Внизу под мостом шумела мыльная речушка, и это было напрасное коварство. Зря ее водный скрежет походил на гудение стальных рельс. Если бы внезапно сзади появился поезд, то, значит, путь свободен, и следовательно, не было никакой катастрофы. Но катастрофа была, он сам видел, как выпрыгивали из горящего поезда обезумевшие пассажиры. И проводница все бегала вдоль вагона и кричала про чертовы кактусы. Видно было, что она к ним привыкла давно, и только злилась на бездельников лесорубов.
Где-то на середине моста загудели металлические опоры, завибрировал, задрожал надводный перелет. Варфоломеев опять улыбнулся — чертовски приятно понимать мир. Навстречу, соседним мостом, вылетел крашеный желтыми и голубыми полосами маневровый тепловоз. Машинист высунулся из кабины и что-то кричит пешеходу. Тоже зря. Тот не слушает, идет дальше по своим делам. Нет, все-таки повернулся, приветственно махнул рукой, мол, давай, жми дальше, разгребать транспортные заторы.
Все правильно. Мост кончился, снова появилась тропинка, повиляла стоптанным руслом и юркнула вниз с насыпи через кусты, наискосок, к Ломоносовскому проспекту. Отсюда уже отчетливо просматривались башни высотного здания, разделенные пополам серой тенью летевшей с юго-запада тучи. Уже слышались громовые раскаты. Варфоломеев прищурился, пытаясь рассмотреть показания термометра. Далековато, не видно. Ну и пусть, он знает и так. Все идет по плану. Сейчас в царство звенящего, неподвижного, тяжелого воздуха ворвется первая волна надвигающейся бури. Туча оказалась трехслойным пирогом. Вверху стерильные белые клубни, манящие, неподвижные, ниже сумасшедшая круговерть: перья, колеса, спирали вертелись, кружились, сталкиваясь и рассыпаясь, и в то же время совместно напирали на темное свинцовое днище, из которого уже хлестало косыми упругими струями. Впереди себя чудище гнало вертикальную стену пыли и мусора, сдобренную изюминками тополиного пуха. Навстречу ей с башен и столбов взлетали сумасшедшие черные птицы и готовились полакомиться воздушным потоком.
Все-таки он не успел. Шагах в двадцати от спасительного асфальта его накрыло. Пришлось чуть не на четвереньках забираться по скользкой крутой насыпи. С третьей попытки, мокрый, перемазанный глиной, он выбрался на шоссе. Содрал с себя вмиг промокший пиджак, крутанул им и чуть ли не с криком запустил дорогую сердцу одежду в кювет. Так легче. Зачем ему документы, если он сам идет на приступ? Облегченный, двинулся дальше, мимо остановившихся автомобилей, вперед, на гору, где раскинула свои яблоневые сады угрюмая альма-матер. Там, под кривыми ветвями он совершит короткий привал, чтобы немного пообсохнуть, поразмыслить, и может быть, даже перекусить кислыми, никогда не вызревающими плодами.
Так и случилось. Где-то через час он сидел на уже просохшей крашеной скамейке и с заранее скривившимся лицом надкусывал небольшое сморщенное яблоко. Чуть погодя рядышком сели двое молодых людей. Паренек разделся по пояс, подставил мучное абитуриентское тело под вертикальные лучи июльского солнца и, щурясь, уткнулся в ослепительно белые страницы, прикрывавшие ее худенькие колени.