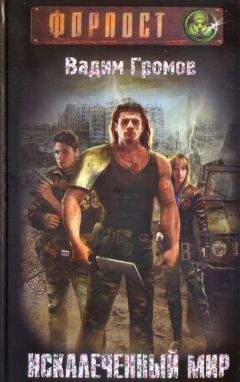Макс Сысоев - Странники
Снаружи раздался пронзительный девичий хохот, но Кузьма Николаевич не обратил на него внимания. Он сделал паузу, чтобы мы осмыслили сказанное, и продолжал:
— Семенами революции будет не партия, не секта, не тайная полиция. Семенами революции будут люди, которые мирно живут и учат других людей. Учителя, которыми сделается большинство моих Учеников. У них не будет никакой организации, никаких собраний. Их действия никак не будут координироваться. Но все они будут делать одно дело — по тому принципу, по которому делаем одно дело мы и кланы на востоке. Мы их не знаем и мы ни о чём с ними не договаривались уже много десятков лет, однако наша совместная деятельность не нарушается и даёт ощутимые результаты.
— Вы говорите, они будут мирно жить и учить других людей... — проговорил я. — Но власть больше всего на свете не любит людей, которые сидят и учат. Таких умников первым делом отправляют в концлагеря.
— Несомненно, — охотно согласился Кузьма Николаевич. — Но в нашем городе отправлять их в концлагеря будет некому. Семена революции это такие люди, которые способны подавить термидор в зародыше. Они первыми заметят тревожные тенденции в обществе и сразу же отстранят кого нужно.
— А не может ли быть такого, что они сами устроят термидор?
— Нет, — сказал Кузьма Николаевич. — Это тебе не КПСС и не преторианский полк. Я повторяю: никакой организации у этих людей не будет, и знать друг друга они тоже не будут, а потому и договориться не смогут. Какой-нибудь незначительной их части, может, и удастся объединиться, но это должно быть заметно сразу. Я уж не говорю о том, что все эти люди, семена революции, будут обладать свободой мысли и ради чего попало и за кем попало они не пойдут. Вот мы с тобой — мы семена революции. Такие люди, как мы, были во все времена и во всех странах — просто они не чувствовали поддержки друг друга и думали, будто они одиноки в своём недовольстве. К тому же, в обществе, где народ не мог контролировать власть, процент таких людей был недостаточен для каких-либо преобразований. У нас же будет построена система общественного контроля, а что до семян революции, то я и мои товарищи не позволим объединиться кланам до тех пор, пока этих семян не созреет достаточно много.
— Всё ж таки мне непонятно, как люди, не имея никакой организации, будут действовать заодно, — сказал я. — Они совсем не будут собираться вместе?
— Конечно, — ответил Учитель. — После того, как закончится обучение, мои Ученики разбредутся кто куда. У каждого будет свой путь. Кто-то, может, пойдёт по свету с друзьями, а кто-то — наверняка в одиночестве. Кто-то встретится с Учениками других Учителей, которые учили тем же вещам, что и я. Но все вместе они собраться не смогут никогда. Оно и к лучшему — меньше будет причин ссориться по непринципиальным вопросам.
— Возможно, — с сомнением произнёс я. — Однако как тогда проконтролировать, что все они делают одно дело, что они не забыли и не исказили нашу идею, не стали учить своих Учеников чему-то неправильному?
— Проконтролировать это невозможно, — ответил Кузьма Николаевич. — Всё, что в наших силах — это дать Ученикам представление о логике, разъяснить для них кое-какие сложные понятия, осветить с новой стороны очевидные вещи, и отпустить их с богом. В наших силах создать в голове Ученика самоорганизующуюся систему, которая будет вечно себя совершенствовать и никогда не закоснеет, не замкнётся в себе и не будет тешить себя иллюзиями. Если в голове Ученика такая система образовалась, он без нашей помощи сможет отличать добро от зла и ложь от правды. А раз эти понятия общие для всех людей, то, осознав их, люди и действовать будут сообща.
— Вы хотите, чтобы все люди думали одинаково? — удивилась Катя.
— Я хочу, чтобы они думали одинаково правильно, — ответил Кузьма Николаевич. — Одинаково смело. Одинаково глубоко. Чтобы все они могли одинаково хорошо передавать знания детям и товарищам. Конечно, мой жизненный опыт показал, что больше половины моих Учеников рано или поздно от этой идеи отходят. Кто-то осознаёт, что не умеет учить; кто-то понимает, что так ничего и не понял. Но зато те, кто научился мыслить логически и делать правильные выводы — тех уже не остановить. Если человек понял хоть какую-то истину, если он прочувствовал всем нутром, насколько сильно заблуждаются люди, — такой человек не сможет молчать. Он обязательно будет делиться истиной с другими. Ибо невозможно удерживать это в себе. Тот же, кто идею не понял, учить не сможет — он не будет знать, что ему говорить Ученикам. Он не сможет объяснить истину другим потому, что не может объяснить её даже себе. Ну а если кто-то исказит нашу идею и создаст, к примеру, секту поклонников прогресса — ничего страшного. Всех в это секту не завербуешь. Это будет допустимое отклонение от нормы, случайная мутация, которую нейтрализует сила здоровых семян революции.
***
Выйдя из кладовки, мы с Катей пристроились у очага, над которым под присмотром Антона кипел котелок с чаем, и стали сидеть молча. В будущем молчали часто и подолгу; слова были очень дороги, и на ветер их не раскидывали. Катя чистила тыквенные семечки. Лузгать их она не умела и счищала скорлупу с помощью ногтей, ломала ногти и, злясь, таращила глаза и кривила губки. Антон жарил над огнём хлеб. Под потолком убежища, среди ржавых балок висели россыпи крохотных светящихся шаров. Барышни за фанерной перегородкой, отделявшей мужскую половину бывшего склада от женской, о чём-то переговаривались.
Я подумал об Учителе и решил, что бесконечно люблю этого старого человека. И он меня любит — как земляка, как того, с кем можно говорить о старых-добрых временах, ныне всеми позабытых. Но не только. В его взгляде я читал, что он любуется хитросплетениями моей судьбы, что он видит во мне явление уникальное и не хочет допускать, чтобы моя уникальность была бесполезной, как редкостная красота женщин, die vergebliche Schönheit. Но не только. Он любит меня как человека, как шедевр самоорганизации, и он любит людей вообще, и всю жизнь он, старый Учитель, посвятил им и одним лишь им. И вслед за ним я тоже почувствовал, что очень люблю людей, и Антона, и Катю, и Свету с Тиграном, и всех Учеников, и Валдаева, и Краскова, и оборванных, пропитых работяг из Города механистов, и мёртвую Лиону, и Ксюшу, умчавшуюся на белом поезде, и тех своих товарищей, которые остались в прошлом этого мира, не сумев разрушить стены интеллектуальной тюрьмы и донести свою страстную, пламенеющую мысль до будущего. Я всё-таки дорос до этой всеобъемлющей любви к простым людям, и не проживу, как аксолотль, всю жизнь уродливой голожаберной личинкой-мизантропом. И только я это подумал, как вокруг меня стали собираться Ученики. Вышли из-за перегородки барышни и расселись у костра. Вернулись со сгоревшего химзавода ребята — и расселись у костра. Антон разлил всем чай в кружки, и они сидели вокруг меня, молчаливые и печальные, и пили чай, уставшие и счастливые, и я любил их. Кто-то достал гитару и стал медленно перебирать струны. Я думал, что не осознал ещё до конца связь общего и частного: тех сложных, абстрактных вещей, которые объяснял мне Учитель, и царившего вокруг меня волшебного братства и умиротворения. Я видел прекрасное снаружи, но магия, приводившая прекрасное в действие и заставляющая играть в унисон струны различных человеческих душ, — она лишь начинала приоткрывать мне свои тайны. Я не погрузился ещё в борьбу этих людей, я отпускал циничные в своей непродуманности замечания и не полностью ещё прочувствовал, как сильно эта атмосфера согласия и поддержки, образовавшая вокруг меня, зависит от великой мудрости, к которой ведёт меня Учитель, какие сложные процессы и закономерности заложены в простую с виду любовь, окружившую меня, как много всего должен осмыслить я, если хочу рассказать о своём счастье другим и распространить его на весь мир.
Гитарный перебор постепенно стал мелодичнее. Зазвучал смех. Кто-то запел тихую песенку, грустную и задумчивую, потом ещё одну и ещё — какую-то красивую, про странника из бездны лет, убежавшего от скуки, от нечаянных побед — про странника, что греет руки над огнём чужих планет. И разговор начался, и стало веселее, словно бы вчерашний пир продолжался, словно время замедлилось, и своей тихой радостью мы хотели помешать наступлению зимы. Песни стали бодрее, кто-то заиграл на флейте и на второй гитаре. Я сидел и думал, что люблю и их, и старый цветочный склад, и разрушенный город, — всю свою жизнь я люблю, как тяжело больной человек, хоть я и здоров, как никогда, и силён, и готов ко всему.
***
Прошло три дня, наполненных работой по расчистке территории сгоревшего химзавода, и прошло три ночи крепкого, спокойного сна. На четвёртое утро я проснулся рано и стал лежать не шевелясь. Я видел Вельду. Она завязала на верёвку горловину выцветшего походного рюкзака, накинула на него сверху зелёный прорезиненный военный плащ, подошла ко мне, села на пол возле изголовья и прикрыла веки, чтобы сияние её глаз не разбудило меня. Но хитрость Вельды оказалась напрасной, ибо я и так не спал.