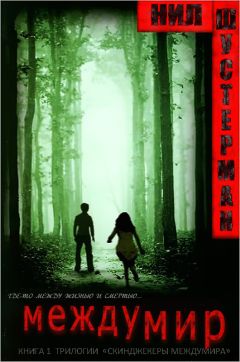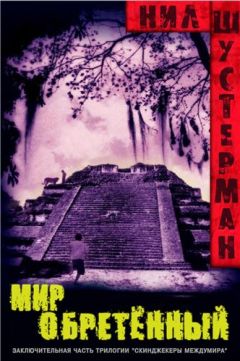Мервин Пик - Титус Гроан
Зазубристый от древесных вершин горизонт напомнил Киде о долгом, мучительном пути, приведшем ее в этот рай, к избушке отшельника, к сегодняшней вечерней прогулке, к мгновениям света, она вспомнила корявые лапы деревьев за правым плечом, вспомнила нечестивый каменный палец, неизменно торчавший слева. Взгляд Киды, казалось, против воли ее повлекся вдоль линии леса, пока не зацепился за малый просвет, обрамленный далекой, черной листвой. Этот клочок неба был так невелик, что оторви Кида взгляд от него хоть на секунду, ей никогда бы уже не удалось отыскать его снова.
По самому краю линии леса роились мириады микроскопических искорок света, и то, что взгляд ее притянул именно этот прогал в листве, прогал, разделенный на равные доли вертикальным сколком зеленого пламени, конечно, никак не могло быть простым совпадением. Даже на таком расстоянии Кида мгновенно узнала каменный перст, окаймленный, окованный мраком.
– Что же он значит, отец, этот узкий и страшный утес?
– Если он страшен тебе, Кида, это значит, что близка твоя смерть, к которой ты так стремишься и которую предрекла. Мне он пока не кажется страшным, хоть он и переменился. Когда я был молод, он представлялся мне шпилем всей любви, какая только существует на свете. Но он меняется с каждым днем.
– Так ведь я не боюсь, – сказала Кида.
Они повернулись и стали спускаться холмами к избушке. Тьма пала на землю раньше, чем они отворили дверь. Кида зажгла лампу, они уселись за стол друг против друга и долго беседовали, прежде чем губы Киды дрогнули и она произнесла вслух:
– Нет, не боюсь. Я сама решаю, как мне поступить.
Старик поднял косматую голову. Глаза его, освещенные лампой, казались колодцами буроватого света.
– Девочка, когда она будет готова, придет ко мне, – сказал он. – Я всегда здесь.
– Это Внешние, – откликнулась Кида. – Всё они.
Левая рука ее невольно легла под сердце, пальцы неуверенно, словно заблудившись, перебирали ткань.
– Двое мужчин умерли из-за меня, и я возвращаюсь к Блистательным Резчикам с кровью этих мужчин на руках и с незаконным ребенком. Меня не примут, – но мне все равно, потому что… потому что птица… птица еще поет… и я найду себе воздаяние на погосте отверженных… ах, отец… мое воздаяние, глубокую, глубокую тишину, которую они не смогут нарушить.
Пламя в лампе дрогнуло, тени метнулись по комнате и, когда оно выровнялось, воровато вернулись по местам.
– Теперь уж недолго, – сказал старик. – Несколько дней, и ты отправишься в путь.
– На твоей серой кобыле, – сказала Кида. – Но как я верну ее тебе, отец?
– Сама вернется, – ответил он, – одна. Как подъедешь к Жилищам, отпусти ее, она повернется и уйдет от тебя.
Кида отняла руку, которую он сжимал в ладонях, и ушла в свою комнату. Всю ночь голос несильного ветра вскрикивал в камышах: «Скоро, скоро, скоро».
Пять дней спустя старик подсадил ее в сложенное из шерстяного одеяла седло. Две корзины с хлебами и иными припасами, свисали по бокам широкой кобыльей спины. Путь Киды лежал на север от хижины и за миг перед тем, как кобыла сделала первый шаг, Кида обернулась, чтобы в последний раз окинуть все взглядом. Каменистую пустошь за высокими деревьями. Бескровельный дом, а к западу – поросшие блеклым волосом холмы и далекий лес за холмами. В последний раз оглядела она заросший бурьяном двор, колодец, дерево, отбрасывающее длинную тень. В последний раз взглянула на козла с белой как снег головой. Он сидел, прижимая к сердцу белую и хрупкую переднюю ножку.
– Никакие скорби больше не коснутся тебя. Они утратили власть над тобой. И голосов их ты больше не услышишь. Ты выносишь дитя, и когда придет время, покончишь со всем.
Кида обратила взгляд на старика.
– Я счастлива, отец. Счастлива. Я знаю, что делать.
Серая кобыла вступила в стоящий под деревьями сумрак и, вышагивая со странной опаской, поворотила к востоку, по зеленой, вьющейся в папоротниковой поросли тропе. Кида сидела спокойно и прямо, опустив на колени руки и с каждым шагом кобылы приближаясь к Горменгасту, к жилищам Блистательных Резчиков.
ОДНАЖДЫ РАННИМ УТРОМ
Весна пришла и ушла, лето было в разгаре.
Настало утро Завтрака, церемониального Завтрака. Блюда, приготовляемые в честь Титуса, которому сегодня исполняется год, величаво скапливаются на столе в северном конце трапезной. Столы и скамейки слуг убраны, холодный каменный простор расстилается к югу, не нарушаемый ничем, кроме уменьшающихся в перспективе колонн по обе стороны залы. Это та самая зала, в которой Граф каждое утро, в восемь, отправляет в рот несколько кусочков поджаренного хлеба – зала, где буйно теснятся на потолках шелушащиеся херувимы, тучи и трубы, где по высоким стенам стекает струйками влага, где под ногами вздыхают каменные плиты полов.
На северной оконечности этого прохладного простора дымится, словно в нее налит огонь, золотая посуда Гроанов, украшая собою сверкающую черноту длинного стола; голубовато поблескивает столовое серебро; салфетки, свернутые в виде голубков, выделяются на общем фоне своей белизной и кажутся висящими в воздухе. Огромная зала пуста, единственное, что слышится в ней, это звук падения дождевых капель с темного пятна на пещерном потолке. Ранним-ранним утром прошел дождь, и теперь по огражденной колоннами длинной каменной аллее растеклась небольшая лужица, тускло отражающая неровный кусок неба, на котором в лоне заплесневелого облака расположилась поблекшая компания дремлющих херувимов. За это-то облако, потемневшее от подлинного дождя, и цепляются неторопливые капли, с него они падают через равные промежутки, летя в полумраке к блеску воды внизу.
Свелтер только что удалился отсюда в свою парную обитель после того, как в последний раз окинул профессиональным взглядом накрытый к Завтраку стол. Свелтер доволен своей работой и, когда он подходит к кухне, подобие удовлетворения искривляет его жирные губы. До зари остается еще два часа.
Прежде чем пинком растворить дверь главной кухни, он медлит, прижав ухо к филенкам. Он рассчитывает услышать голос одного из своих поварят, любого – не важно которого, – ибо он приказал всем им помалкивать до его возвращения. Вся обряженная в кухонную форму мелюзга стоит, построенная в два ряда. Ну так и есть, двое поварят препираются тоненьким, повизгивающим шепотком.
На Свелтере его лучшая униформа, одеяние необычайной пышности – высокий колпак и тужурка из девственно чистого шелка. Согнувшись вдвое, он на малую часть дюйма приотворяет дверь и приникает к щелочке глазом. Пока он склоняется, мерцающие складки шелка на его животе шипят и шепчутся, словно голос далеких, гибельных вод или некоторой грандиозной, нездешней, призрачной кошки, с шелестом втягивающей воздух. Глаз Свелтера, сползающий по филенке, напоминает нечто отдельное, самостоятельное, не имеющее никакой нужды во влачащейся за ним толстой башке, да если на то пошло, и в прочих горообразных массах, волнами нисходящих к промежности и к мягким, стволоподобным ногам. Он такой живой, этот быстрый, точно гадюка, глаз, он весь в прожилках, будто мраморный, в красных спиральках, шарик. На что ему скопление облегающей его неповоротливой плоти, медлительные тылы, свисающие позади, пока он вращается между одутловатых, только мешающих ему комьев мяса, подобный стеклянному глобусу или куску охряного льда? Достигнув кромки двери, глаз впивается в два ряда худых поварят, точно кальмар, всасывающий и поглощающий некую длинную глубоководную тварь. И покамест глаз втягивает всех их в себя, сознание власти над ними похотливо растекается по телу Свелтера, покрывая его упоительной гусиной кожей. Да, он увидел и услышал двух визгливо-шепотливых юнцов, которые уже грозят друг другу ободранными кулачками. Они ослушались его. Свелтер потирает одну ставшую вдруг горячей и влажной ладонь о другую такую же, проводя языком по губам. Глаз следит за ними, за Мухобрехом и Клокотрясом. Что ж, подойдут и эти, отлично подойдут. Так вы, стало быть, недовольны друг другом, не правда ли, мелкие навозные мухи? Как мило! Ладно, спасибо и на том, что избавили меня от необходимости выдумывать причину, которая позволит примерно наказать всю свору ваших нелепых маленьких собратьев.
Главный повар распахивает дверь, сдвоенный ряд замирает.
Он приближается к ним, вытирая ладони о шелковые ягодицы. Он нависает над этой мелкотой, будто покрытый грозными тучами свод небес.
– Мухобрех, – произносит он, и имя выползает из его рта, как бы волокомое сквозь густую осоку, – тут для тебя найдется местечко, Мухобрех, в густой тени моего брюха, да тащи сюда и своего лохматого приятеля – не удивлюсь, коли отыщется местечко и для него.
Мальчишки подползают к повару, глаза их распахнуты, зубы клацают.
– Вы, стало быть, беседовали, не так ли? Балабонили даже быстрее, чем стучат ваши зубы. Я не ошибся? Нет? Тогда поближе, поближе. Мне неприятна мысль о том, что придется тянуть к вам руки. Вы же не хотите причинить мне неудобство, верно? Прав ли я, говоря, что вы не хотите причинить мне неудобство, а, юный господин Мухобрех? Господин Клокотряс?