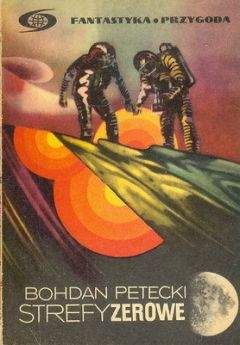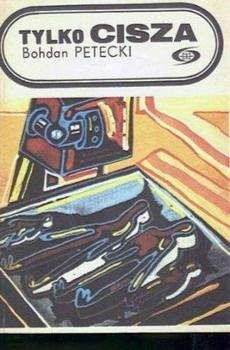Богдан Петецкий - Люди со звезды Фери
Он обошел это молчанием. Наклонился и уперся взглядом в край стола. В такой позе он оставался довольно долго, потом вздохнул и бросил тоскливый взгляд в сторону молчаливой, отключенной аппаратуры стимуляторов.
— Жаль… — пробормотал он.
На этот раз я признал его правоту. Я и сам об этом подумывал.
— Славные это были времена, верно?
Он не шевельнулся.
То были славные времена. Но прошли. Времена, когда нервы и мозговые поля пилотов действовали под диктовку стимуляторов. Когда человек попросту подключался к аппаратуре и сразу же приобретал все: трезвость оценок, единственный и наилучший вариант реакции, многократно увеличенную скорость переработки информации и бог знает что еще.
Я говорил об этом с «Технарем». И высказал мнение, что запрет на использование стимулирующей аппаратуры наложили люди, духовных предков которых следует искать среди инквизиторов. Или неосхоластиков доминиканской школы. И тех, и других отличало одинаковое уважение к рациональным возможностям мышления. И действия.
«Технаря» это вогнало в тоску, более глубокую, чем обычно. Он долго молчал, с печалью поглядывая на меня, а потом разразился речью. Стимуляция, — изрек он, — играла свою роль до определенного момента. Точнее, до первых галактических контактов человечества. Вот тогда-то и оказалось неожиданно, что те нежелательные эмоциональные состояния — страх, радость, сомнения, — все то, что воспринималось до этого пилотами как слабость, являются еще одним, и зачастую наилучшим способом взаимоотношения[1].
«При том единственном условии, — ответил я, — что в случае необходимости человек сам себе заменит стимулирующую аппаратуру». И еще добавил, что меня поражает непоследовательность людей такого типа. Ведь до сих пор полный комплект этой аппаратуры монтируется на всех новых кораблях, несмотря на то, что с момента вступления в силу запрета на ее использование прошел не один десяток лет. Чтобы все было в порядке, подумали о блокаде, и все же… Снять-то ее можно движением ногтя. Я попросил, чтобы он поразмыслил над этим в свободное время.
Гус ничего бы не имел сейчас против того, чтобы этим ногтем воспользоваться. Я предложил, что для него пойду на это.
— Нет, — ответил он, быстрее и громче, чем следовало бы.
Я пожал плечами. И подсказал:
— Есть же еще диагностика.
Он покачал головой.
Диагностическая аппаратура по сути дела была ничем иным, как ограниченной системой стимуляторов. «На всякий случай». В доли секунды она определяла состояние организма. Накачивала химикалий. Делала инъекции и прививки. В случае необходимости — усыпляла. Не касалась только полей, окружающих мозговые центры. До тех пор, пока не пустят в дело ноготь.
— Что-то мне в этом не нравится, — неожиданно заявил Гус.
Я глянул на него. Он сцепил пальцы под подбородком и задумался.
— Хм…
— Мне не нравилось уже там, на побережье, — пояснил Гус.
Я подождал минутку. Он молчал дольше, чем обычно.
— Не тебе одному, — пробормотал я.
— Я надеялся, что этот треугольник в океане был замкнут тремя отражающими стенами, — сказал он. — Тогда у нас была бы, по крайней мере, гипотеза. А пока дела выглядят так, что я могу лишь сказать, что мне это не нравится…
Одно дело — иметь возможность сказать, и другое дело — сказать это, — мелькнуло у меня в голове. Но на самом деле я не удивился, что он распустил язык. Именно теперь. Втроем — вырабатывается точка зрения. С кем-то одним можно просто размышлять вслух. Он не мог отказать себе в этом. Что же касается точек зрения, то недостаток их был более, чем очевиден.
— Знаю, — заметил я. — Ты вовсе не о Сене думал, когда сказал, что надо поговорить. Тебе со своими мыслями не разобраться. Потому ты и стал облизываться на стимуляторы.
— Несмотря на это, — тут же ответил он, — мы ими не воспользуемся.
— Пока нас не припечет, — буркнул я.
Он начинал меня раздражать.
— Спокойной ночи, — сказал Гус негромко.
— Спокойной ночи, — ответил я. — Через два часа разбужу.
* * *Нитеподобные синусоиды, скользящие по вытянутым эллипсам контрольных экранов. Сотни неярких огоньков над пультами. Сочащийся от них свет не достигал моего лица. Кабина тонула в сплошном мраке. Внешние микрофоны не доносили даже самого слабого дуновения ветерка. Ни одного, даже самого отдаленного звука от чернеющих на горизонте гор. Ни малейшего, самого тихого шума океана.
С какого-то мгновения я перестал следить за неторопливо пульсирующими датчиками. В случае чего я и без этого откажусь во время предупрежден. Успею сделать то самое движение в направлении прицелов и блокировки излучателя.
На экранах, в инфракрасном диапазоне, облака, серебристо-серый океан и прибрежные дюны начали приобретать новый, грозный облик. Предостерегали.
Я пытаюсь представить, как будет выглядеть наш первый рассвет здесь. И меня неожиданно переполняет уверенность, что день окажется скверным. Так что спешить некуда.
Неопределенность. Но я ухожу мыслями дальше. Я думаю о том, что люди, которых мы должны отсюда забрать, уже не принадлежат нам. Реусс должен был остаться здесь. И не один. Планета наложила на них свою руку. Или, может быть, это они занялись ее делами?
— Моя очередь, Жиль, — раздалось у меня за спиной.
Я вздрогнул и резко повернулся.
— Что случилось? — спросил Гускин, невольно делая шаг назад.
Я покачал головой и нетерпеливым движением отсоединил аппаратуру скафандра.
Ничего, — буркнул я. — Садись.
* * *Четыре часа спустя начался день. Первыми заполыхали облака, мгновенно отразившись световыми пятнами от горных вершин. Через неполных две минуты подернулась серебром поверхность океана. Назвать это рассветом было трудновато.
На этот раз вездеход должен был оставаться на своем месте. Я решил взять летун.
— Будут хлопоты со связью, — скривился Сеннисон.
— Лучше иметь плохую связь, чем не знать, с кем ее устанавливать, — проворчал я.
— От вездехода и без того не было бы толку в горах, — произнес примирительным тоном Гускин.
Может, я бы и согласился. Я знал, что подразумевает Сен, а он прекрасно отдавал себе отчет, что я это знаю. Вездеход был контактной машиной. Летун — боевой. Разница эта говорит о многом. Что касается меня, но я вовсе не намеревался позволять поднимать себя на воздух или всасывать под землю во имя галактической солидарности.
Башенка летуна имела форму приплюснутой чаши с сильно сглаженными краями. За ними таились, глубоко упрятанные в своих амбразурах, стволы излучателей. Под ногами ощущалось присутствие энергетических и двигательных систем. Над головой раскачивались тоненькие жилки антенн, распластавшихся наподобие пальмовых листьев.
Машина, приподнятая на воздушной подушке, передвигалась длинными прыжками. Со стороны это в самом деле могло производить ощущение полета. Тем не менее его название не имело с этим ничего общего. Оно было попросту сокращением. Официально аппарат носил название летотрон. О назначении его можно было написать тома. Судя по тому, что мы слышали на курсах. Исследование аммониакальных миров, работа в условиях высоких давлений и так далее.
На самом же деле, как я сказал, он был предназначен для сражений. Если даже те, кто создавал его, не любили в этом признаваться. Но это никак меня сейчас не касалось. Ночь кончилась, а с ней — и ожидание.
Первые пятнадцать минут мы двигались прямо на север. Не имело смысла вслепую тыкаться в объятия подземной аппаратуры, прежде чем мы не выясним что-либо о существах, ее построивших.
Потом, обогнув широким полукругом полосу дюн, мы направили машину в сторону закрывающих горизонт гор. Вопреки пессимистическим предсказаниям Сеннисона связь с «Идиомой» осуществлялась без малейших помех.
Счетчик пройденного пути указывал восемнадцать километров. Горы значительно приблизились, их заостренные, суровые массивы понемногу выделялись из общего фона, становились самостоятельными. Мы еще некоторое время двигались в их направлении, потом, повернув на сорок пять градусов, нацелились на запад.
Между прибрежными дюнами, напоминающими отсюда разрытые кучи с песком, и первыми горными отрогами шла параллельно береговой линии океана полоса гладкой, словно искусственно нивелированной равнины. Теперь мы ехали посередине ее, минуя те места, где вчера чуть было не распрощались со своей карьерой пилотов Проксимы. С такого расстояния там ничего не было видно.
С какого-то момента цвет грунта начал меняться. Грязноватый песок уступил место мелким камешкам, а потом каким-то эластичным комкам неправильной формы. Поначалу они залегали лишь в немногочисленных углублениях, но постепенно их слой становился все толще, покрыл всю поверхность, которая из сероватой стала сине-зеленой. Не снижая скорости летуна, я задействовал манипулятор, который высунулся из носа аппарата как гротескная рука и подобрал горсть «шариков». Как мы и ожидали, они оказались растениями. Лишенными всего того, что разумное существо, живущее на добропорядочной планете, могло бы назвать «зеленью». Листьев, корней, какой-либо внутренней структуры или, хотя бы, отверстий. Примитивный комок из нескольких сотен клеток. Они заключались в тонкой, необычайно эластичной кожуре, которая однако разодранная ранила пальцы. От них шел неприятный, маслянистый запах, правда, очень слабый.