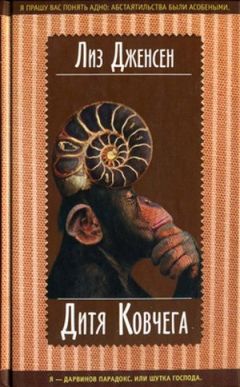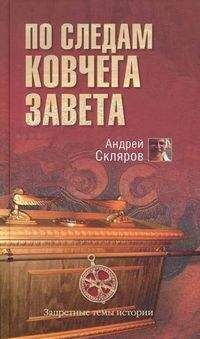Лиз Дженсен - Дитя Ковчега
Скрэби протер увеличительное стекло платком.
– Это, – уточнил Кабийо, показав на лопату и лагуну caca,[14] порожденную завтраком Моны, – не есть мое пригодное положение на пгигодной лестнисе, мсье.
Скрэби, балансируя на лестнице собственной, наклонился рассмотреть поближе слоновьего смотрителя. Впрочем, много не увидел: только черно-белую кляксу и поросль на лице при приближении.
Кабийо продолжал:
– Я не габ этого слона, я artiste.[15] Позвольте мне пговесьти день на вашей ку'не, мсье, и я покашу вам, што такое настоящая gastronomie.[16]
Мона покачивала хоботом и переминалась зловеще и молчаливо с ноги на ногу – каждая с подставку для зонтов; Скрэби, учуяв опасность, судорожно ретировался со стремянки и воздвигся на соломе подле Кабийо. На этот раз таксидермист придвинулся ближе, приложил лупу к липу смотрителя и еще раз его оглядел – отметив пятидневную щетину, порванную и гноящуюся мочку, с которой явно принудительно сорвали серьгу, скверный запах и огромный карий глаз, больше, чем у коровы. Заморский вид, заключил он. Ничего особенного. Возможно, европейского происхождения. Удовлетворившись осмотром обоих особей и видов, доктор Скрэби убрал лупу в карман.
– И? – произнес он.
Кабийо умел распознать приказ. По ходу изложения своего жизнеописания, бельгийцу пришлось держать лопату коленями, зажав ее, будто в клещи, дабы руки могли свободно жестикулировать, аккомпанируя рассказу. Кабийо поведал, что был рожден для великой кулинарной славы (правая рука вытянулась вверх), но по ошибке оказался на борту «Бигля» (тут Скрэби навострил уши), ужасном судне (звучный плевок в сторону кадки с водой), полном англичан (опущенные уголки губ), на котором после отъезда с Галапагоссов, не считая опытов с Cuisine Zoologique (Скрэби смутился: он не знал французского), ему приходилось готовить только кашу, соленую селедку и водоросли (опять слюна). Блюда, порою, когда море волновалось, приправленные – Dieu me pardonne![17] – его собственной блевотой.
– Суп из водогослей, гыбные котлеты из водогослей, жагеные водогосли, пюге из водогослей. Как-то я пгиготовил из водогослей gratin[18]: с дгугого когабля упал сыг, я выловил его, сделал gratin, – но все отослали назад, сказали, пло'о. Вы, ашлишане, стали бы кушать и шэловешэское ordure,[19] эсли бы В нем, согласно вашему вкусу, имелось suffisamment[20] непегежевываемых кусков.
Да, это вызов. Руки в боки. Fini. Voila?.[21]
– Я подумаю, – произнес Скрэби, еще раз бросая взгляд на Мону и прикидывая, что ее вес не менее двух тонн. Как скажет нам любой таксидермист, в подобных случаях вся сложность заключается не столько в набивке, сколько в свежевании и конструировании каркаса. Не говоря уже о пространственных ограничениях, накладываемых мастерской. Выводы Скрэби: забудьте, Ваше Величество. Она слишком громадна; конец дискуссиям.
Мона беспокойно топчется, словно телепатически улавливая течение мыслей Скрэби, которые уже перетекают (она издает шумный вздох облегчения) к фигуре Монарха, вечно дремлющей на задворках сознания таксидермиста, словно непроходящая докучливая мигрень. Чертова женщина! думает Скрэби. Чертова, чертова женщина! Посмотрите на нее, с ее картой мира, замазанной розовым, и нелепым Царством Животных! Лишь такой богатой, неуравновешенной и напыщенной женщине могла прийти в голову подобная затея! И лишь Горацию Капканну могло хватить дерзости убедить Королеву, что он и впрямь способен привезти тысячу заморских видов в целости и сохранности на одном судне. Ковчег Ее Величества! Какая гордыня!
– Чертова женщина! – изрекает Скрэби.
– Comment?[22]
– Королева. Я ее предупреждал. Говорил, что это дурная затея. Если не хуже. Ною удалось, но это в Библии.
– А, – шепчет Кабийо, изо всех сил стараясь изобразить сочувствие и размышляя, как направить беседу к достижению собственных целей. Параллельно его мысли движутся в другом направлении: будет ли сочетаться кислая острота крыжовника с сочностью енота?
– Все знают, что Капканн жалкий дурак, – продолжает Скрэби. – Опасный дурак. – Дьявол его побери! размышляет Скрэби, мысли вихрятся от ярости. Прошлое этого человека переполнено предпринимательскими неудачами. Не говоря уже о работорговле. Всем известно, что единственная причина, заставившая его выйти из этого дела, то, что целый корабль помер у него с голодухи. Тысяча чертей! Какой дьявол заставил Бегемотицу довериться подобному человеку? – (Мне нужно поспать. Шестнадцать раз за одну ночь! А ведь она ничего не пила.)
– Опасный дугак, – вторит Кабийо, совершенно не понимая, о чем с такой злостью бормочет Скрэби, но желая угодить. – Я слышал то ше самое. Этот Копканн опасен и к тому ше, сле'ка не в себе.
– Капканн, – устало поправляет Скрэби, похлопывая Мону по огромной кожаной стене бедра. – Гораций Капканн.
– Вегно, – с энтузиазмом откликается Кабийо. – Капканн! Именно! Полный бесумец! Полный idiot!
Скрэби погружается в раздумья. Минуло два года, как Капканн со свитой отплыл в Африку, и нет нужды добавлять, что с тех пор ни слуху ни духу. Может, и к лучшему, думает таксидермист. Ведь это ему, Скрэби, пришлось бы набивать тварей после возвращения Капканна. А у него и без того дел хоть отбавляй. (Опиумная Императрица ему не помощник. Беременность ввергла ее в девятимесячный транс, прерываемый лишь ночными выходами к Нужнику.) А между тем, Гораций Капканн, похоже, прихватил королевские деньги и сбежал.
– И это неудивительно, – констатирует Скрэби.
– Вегно, нисколько, – соглашается Кабийо. – Пгичем, полагаю, ни для кого.
– Черт побери Королеву! – подводит итог Скрэби.
– И этого Капканна тоше! – с жаром добавляет Кабийо. – К Дьяволу эго, этого умалишенного, коего я ненавишу всей душой и сегдсем! И Коголеву туда же, эту оггомную, оггомную, оггомную, оггомную, оггомную…
– Бегемотицу, – заканчивает Скрэби.
Мона одобрительно фыркает хоботом и принимается за кипу сена.
И тут Кабийо, приободренный собственной прытью в вещах, о которых ничего не знает, идет ва-банк:
– Vous acceptez, donc, ma proposition, Monsieur?[23]
Скрэби еще раз достает увеличительное стекло и глядит мужчине в глаза. Да: похоже, они говорят на том же языке.
– Я дам вам три дня на моей кухне. – И разворачивается уйти.
– Благодагю, сэг, – шепчет Кабийо, с трудом сдерживая радость. Его сердце того и гляди выпрыгнет из груди! – Вы не regrettez![24]
Скрэби складывает стремянку и направляется к воротам.
– Три дня.
Кабийо и Мона наблюдают, как он, раскачиваясь, идет по усыпанной гравием дорожке мимо вольера с обезьянами – долговязая сухопарая фигура.
И вдруг видят, как он поворачивается. Кабийо бледнеет. Неужели таксидермист передумал?
Доктор складывает руки лодочкой у рта и что-то кричит.
– Никаких возражений против необычных видов мяса? – слабо, сквозь гомон шимпанзе, долетает его голос. – Потери Зоологического сада имеют привычку доставаться мне. А в хозяйстве все сгодится!
Mon Dieu![25]
– Совегшенно никаких, сэг! С пгевиликим удовольствием!
Он склабится так широко, что свело челюсть, замечает Кабийо. Когда еще он был так счастлив? Он целует в хобот Мону, и та с нежностью обвивает смотрителя хоботом. А затем, будучи настоящей леди, поднимает с земли высоко в воздух, словно игрушку, и в знак признательности опорожняет свой кишечник.
Старое пыльное павлинье перо раскачивалось в газовом свете, пока Мороженая Женщина выцарапывала им слова на куске тонкого пергамента:
Моей первай ошибкой, – писала она, – была ПАВЕРИТЬ, uimo если у мужщины имееца МЕЧЬТА, как он говорит, тоэта МЕЧЬТА заслуживает ДАВЕРИЯ и должна внушать УВАЖЭНИЕ. Это НЕ так. Вот, о чом Он расказывал:
1. О дальних СТРАННАХ, де я буду КАРАЛЕВАЙ.
2. О славе u БАГАЦТВЕ.
3. О новая МИРИ будащева, де никаму не предеца РОБОТАТЬ.
Он покрутил УССЫ, и я поверила ему.
Она остановилась, потрогала кончик пера и, опять склонив голову, продолжила царапать пергамент:
Он был добр ко мне, кода мы в первый встретились – тагда па вечарам я танцавала в Каролефском Хэрбе. Он увидал меня и захотел, это Он так сказал.
Он казал, зделаеш для меня такие ШПАГАТЫ?
Гаварит как багач. В Ево голасе деньги, думаю я. Он ставит меня на стол.
Теперь делай ШПАГАТЫ, гаварит Он.
Нет, я гаварю. Не магу. Ноги падгибаюца. Так СТРАШНА, что аписаца.
Он проста сидит, крутет Сваи Уссы. Ждет.