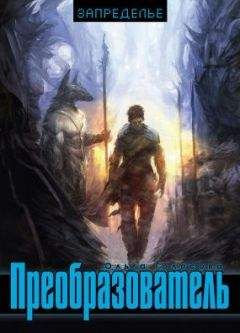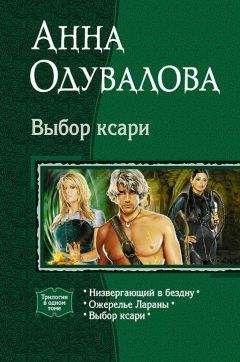Ольга Голосова - Преобразователь
— Возьми и не позорься. Сшей себе что-нибудь в греческом стиле, из матового шелка. Удобно и не жарко. Впрочем, извини, погорячился. Ты в шелковой рясе будешь похож на…. на… — владыка прыснул, перехватив взгляд брата. — Ну ладно, сшей простенькое. Льняное, например, — точно жарко не будет. Давай позвоню, тебя там быстро оденут.
Петя покраснел как рак и помотал головой.
— Не надо. Я сам.
— Знаю твое «сам». Накупишь сникерсов и в Макдональдс. Постную картошку-фри жевать. Наверняка еще и одалживаешь всем. Нет, мне не жалко денег. Мне тебя жалко. Бери-бери.
Петя не хотел брать деньги. От брата не хотел. Но потом подумал, что это в нем гордыня говорит. Брат ведь от души дает, ему Петра жалко. Да и стыдно владыке такого брата иметь, как Петя. Ничего, Пете полезно посмиряться. Не умеешь зарабатывать, не умеешь беречь — значит, бери и красней. Хорошо еще, что пока хоть стыдно, — значит, не совсем еще пропал. Петя взял деньги и, неловко смяв пачку тысячных, засунул ее прямо в карман.
— У тебя что, даже бумажника нет? А документы ты где носишь?
— А я не ношу. Зачем? Еще потеряю.
— Тьфу на тебя, Петр. Ты у меня прям как дитя. Ладно, закрыли тему. Возвращаясь к твоей, не побоюсь этого слова, миссии. А может, Петь, ты пойдешь к нему и предложишь ему покреститься? Ты, я смотрю, чувствуешь себя обязанным ему, так и принеси ему благую весть, так сказать. От тебя он примет.
— Ты что, Паш, с ума сошел… Ой, ваше высокопреосвященство…
— Да не сошел я с ума. Может, Господь его спасет?
— Да как же Господь его спасет, если он не человек вовсе? Господь за людей на кресте умер. Это кощунство какое…
— А то ты знаешь, за кого Господь умер, а за кого нет. Ты Богу рамок не ставь. Дух дышит, где хочет. Может, Господь в таинстве его преобразит! И душа его спасется. Ведь доподлинно неизвестно, кто они такие, эти сапд… эти твари.
— Как ты их назвал?
— Да неважно. Заболтался я уже. С утра народ прет. Так что ты, Петь, подумай. Ведь так лучше будет для него и для нас. А то еще в секту уйдет какую или свою организует… Неизвестно, что хуже. Католики не упустят такого шанса.
— Нет, Паш, прости. Это ты ерунду говоришь.
— Ага, как Паша твое дерьмо разгребать — так пожалуйста. А как для Церкви поработать — так все у тебя «некошерно».
Петя ощутил в кармане пачку денег и опять покраснел. Хотелось их выложить обратно и не чувствовать так остро свою обязанность перед братом. Но вернуть деньги — это страшно оскорбить его. Ведь Павел-Илиодор от души давал. Для брата. И Петя засопел.
— Давай, иди к нему и поговори. Мы ведь обязаны думать о спасении людей… м… да. Мы должны дать ему шанс, а там Господь управит. Так что иди и проповедуй Евангелие перед лицом всех народов.
— Не пойду. — Петя произнес это тихо и, собравшись с силами, поднял на брата глаза. — Не пойду, и все.
— Дожили, — митрополит в сердцах оттолкнулся ладонями от стола, отчего отъехал в своем кресле к окну. — Вот скажи мне, Петр, отчего ты такой вздорный, а? Образование — три класса семинарии, школу на тройки закончил. Ведь по-гречески небось ни бум-бум? Не кумекаешь? А туда же — про догматы рассуждать. Вот я тебя же не спрашиваю, хочешь или не хочешь. Я тебя как архиерей благословляю на поприще — вот и иди. А то в Соловки поедешь, картошку копать.
— Ну и поеду.
— Ах, поедешь?! Ну, Петр, погоди. Я тебе устрою каникулы. Я тебе подыщу местечко для смирения.
Илиодор встал и прошелся по кабинету. Полы шелковой рясы развевались за ним, как плащ за Наполеоном.
— Ну, подумай своей головой немножко, Петр. Он сейчас в том положении, когда ему нужно на кого-то опереться. На своих он не хочет, на крысоловов — не может. Ты единственный человек, кому он хоть как-то доверяет. И ты отказываешься ему помочь. А что, если он самоубийством покончит? Грех на твоей душе будет. А если убьет кого-нибудь? Подумай, подумай. А ты можешь ему свет показать, путь из тьмы. Или ты боишься?
— Я не боюсь. Но это все как-то нечестно. Ты ведь не потому меня посылаешь, что о душе его печешься. Ты хочешь, чтобы он тебе послужил. А это подло. Да, подло. Он свободная тварь Божия, а ты его Богом обмануть хочешь. Он сам должен понять, что без Бога плохо. Если Господь позволит ему это понять.
— Вот иди и проверь, позволит или не позволит. Демагог несчастный. Если не проверить, не позвать, как узнаешь?
Петя смотрел на свои ботинки. Он не знал, как правильно. Но быть посланным к Сергею агентом благой вести он не хотел. А может, он вправду боится?
— Ну, что? Выбирай, или картошка, или миссионерство…
— Если ты велишь, я пойду. Но я по совести думать буду.
— Вот это меня и пугает, — владыка быстро глянул на тяжелые напольные часы в углу. — Ладно, Петюнь, иди пока обратно в монастырь, там переночуй. Мобильник-то хоть у тебя есть?
Петя вытащил из кармана старенькую «нокию» и показал брату.
— Это уже антиквариат, а не мобильник. Ладно, куплю тебе нормальный. Давай, иди пока, я позвоню. Ну, а отцу Виталию скажу, что благословил тебя на новое послушание, — владыка вышел из-за стола и, оглядев Петю, легонько расцеловал его в щеки, попутно следя, чтобы с Петиной одежды на него ничего не нападало.
— Благословляю тебя, Петр, благословляю, — сложив персты в архиерейское благословение, Илиодор осенил брата обеими руками. — Ну, ступай, мученик. Позвоню.
— Прости меня, — Петя еще раз взглянул брату в глаза, такие же опушенные длинными черными ресницами, как у мамы, и глубоко вздохнув, пошел к двери.
«Господи, помилуй владыку Илиодора», — шептал он на ходу, стараясь ничего не опрокинуть и никого не толкнуть.
Когда Петя вышел, епископ тяжело опустился в кресло. Вот послал Господь братца. Владыка любил Петра, но непонятная упертость младшего брата иной раз доводила его до колик. Хотя… Никого другого Чернов до себя не допустит. Ни умного, ни богатого, ни успешного… Он сам такой. А вот малость юродивого — в самый раз. А владыке нужно было, чтобы там был кто-то свой. Кто не продаст и не струсит. Кому можно верить. Конечно, Петя неуправляем в силу своей детской дурости. Но он верит в Бога, а это, говорят, заразно.
Владыка взял телефон и посмотрел в окно. Надо докладывать.
Глава 31
Возвращение
Ночью я выл. Я проснулся от того, что я вою. Я лежал на кровати, накрывшись с головой, и выл. Слезы не шли. Выл, а глаза были сухие. Наверное, крысы не умеют плакать — глаза не приспособлены.
Я видел, как падает Анна. Я видел эту пулю, что летела сзади, из кустов, и ударила ее в затылок. Били на поражение. Другие пули вбивали уже в мертвое тело. Просто так. Для красоты. Анна там, ночью, в Переделкино, рухнула на гравий. И все.
Но здесь, под одеялом, она падала как в замедленной съемке. Развевались волосы, руки разворачивались как крылья, и она, как сорванный ветром лист, плавно ложилась на садовую дорожку. Пахло чем-то сладким. Какие-то ночные цветы распустились. Белые, граммофончиками. Одна ее рука упала в эти цветы, а другая легла в пыль. Ее тонкие пальцы разогнулись навсегда, дернулись и замерли веки, ресницы скрыли черные, как южная ночь, глаза. Ноздри последний раз вдохнули воздух, губы сомкнулись тоже в последний раз. Ее грудь больше не наполнится воздухом, она больше не улыбнется мне. Она больше никогда ничего не сделает. Из-за меня. Это я убил ее. Убил свою Анну.
Можно было бы уколоться героином или напиться. Можно было вскрыть вены. Можно все. Но ничего из тысячи возможностей не вернет Анне жизнь, не заставит ее глаза открыться, а губы — улыбнуться. Она больше никогда не придет. Я не услышу ее голос, не коснусь ее. Ничто уже не отменит этого никогда. И она никогда меня не простит. Я никогда не узнаю, простила ли она меня. Я убил ее.
Как там сказал полковник?
Поэтому перед моими глазами, мой друг, стоит только один мертвец.
Тот, кого я любил.
А если бы я любил всех людей? Как Бог?
Значит ли это, что перед моими глазами стояли бы все мертвецы мира?
Но где мои слезы?
Почему я лишен самого естественного права любой твари — права оплакать своего мертвеца?
Анна, где ты? Как ты могла умереть? Как я мог убить тебя?
И Аида все время незримо стояла рядом, и я чувствовал, что ей плохо. Она не отпускала меня ни на секунду с тех самых пор, как закрылась за ней дверь в душную беззвездную ночь. Она пила из моего сердца жизнь, она болела во мне, как заноза, она была необходима мне, как вода. Она ждала меня, она звала меня. Я слышал это так отчетливо, как мать слышит крик своего младенца, даже когда он за сотни километров от нее. Но я не мог ей помочь. Я не знал, где ее искать. Она ушла, оставив меня, она тоже умрет.