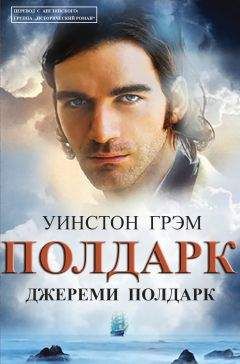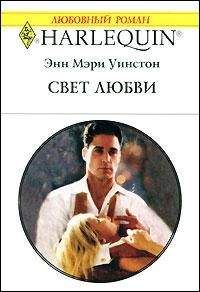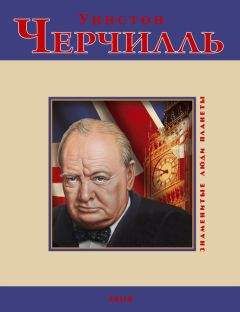Павел Корнев - Бессердечный
– Ты не помнишь? – спросил он. – Драть! Ты и в самом деле ничего не помнишь?
– Не помню чего? – спросил я, глядя на него сверху вниз. Потом прикоснулся к разбитой губе, но крови не было. Да и откуда кровь у мертвеца?
– Всего! – зло выкрикнул беловолосый коротышка. – Не помнишь, да?
– Не помню!
– Драть! – выругался лепрекон. – Драть! Драть! Драть!
Он вдруг сдернул с себя обтрепанный зеленый камзол и остался в штанах и манишке; жилистое тело покрывали копии моих татуировок, только зеркально отраженных и выжженных каленым железом.
Это удивило и напугало, но куда больше напугал вытащенный коротышкой из-за пояса кухонный нож.
– Хочешь вспомнить? – спросил лепрекон, резким движением протягивая клинок через стиснувшую его ладошку. Хлынула алая кровь, и альбинос протянул нож мне. – Левую! – потребовал он. – Только левую!
Левую? Руку, на которую не успели набить ни одной татуировки?
Я не колебался ни секунды, принял нож и вспорол лезвием белую как мел кожу. Я ожидал бескровного разреза, но ладонь моментально наполнилась черной кровью, а от запястья до локтя и выше, прямиком туда, где должно быть сердце, протянулась мучительная боль.
Дальше лепрекон все сделал сам, он стиснул мою ладонь своей, словно в варварском ритуале кровного братства, и прохрипел:
– Ну теперь-то вспомнил, болван?
Татуировки на его коже вдруг налились сиянием, в следующий миг огонь перекинулся и на меня, но прежде чем сознание пожрало безжалостное пламя, я успел ответить:
– Вспомнил!
И я действительно вспомнил. Старые, похороненные в глубинах памяти воспоминания вернулись, а вместе с ними вернулось нечто большее, некая часть меня самого…
Пронзительный холод, тусклые отсветы керосиновой лампы на ледяном крошеве; покрытая инеем дверь подвала захлопнута. Сколько ни стучи, сколько ни кричи – через такую помощи не дозовешься.
Я кричал, я знаю наверняка.
Повар с жутким кухонным ножом, холод стали в груди, страшная улыбка проникшего в дом исчадия ада, мое сердце в его руке…
И все это – со стороны, все это – глазами вымышленного друга. И вдруг – миниатюрная ладошка на рукояти воткнутого в ледяное крошево ножа, стремительный рывок, брызги крови, хрипы из распоротой глотки. И – провал. Дальше в памяти зиял бездонный провал.
Дальше лепрекон все сделал сам.
Воспоминания промелькнули перед моим внутренним взором в мгновение ока; я разорвал чужую сорочку и с немым изумлением уставился на два страшных разреза, рассекавших вытатуированную на груди восьмиконечную звезду: новый, со следами свежей крови, и старый, синюшно-белый и ссохшийся.
Будь я проклят!
Страх маленького мальчика оказался столь силен, что талант сиятельного сотворил ему новое сердце! Новое выдуманное сердце!
Я бы рассмеялся, не будь мне так больно. Татуировки сияли и жгли лютым огнем, меня сотрясали судороги, ребра трещали, сдвигаясь на прежние места, срастаясь и покрываясь плотью. Раны – и старая, и недавняя – затянулись, теперь не осталось даже шрамов, но на этом метаморфозы не закончились, изменения растекались по телу от пореза на левой ладони, словно закачанная в вены ртуть. Жгуты мускулов опутывали кости, расползались под кожей, раздвигали плечи вширь, перекраивали меня, превращая в кого-то другого.
В того, кем я должен был вырасти, не окажись одним злосчастным вечером в подвале отцовского особняка…
Когда татуировки перестали сиять и посерели, а судороги стихли, я в полном изнеможении распластался на холодном полу. Чужая одежда разошлась по швам и свисала обрывками; я больше не был худым дылдой, теперь я выглядел полной копией отца.
Высокий, широкоплечий, сильный.
Я стал совсем как отец, внутри меня теперь тоже жил зверь.
С помощью татуировок папа намеревался запереть наследственное заболевание внутри меня, хотел лишить его силы, уберечь сына от превращения в кровожадное чудовище. Ирония судьбы – мое темное альтер эго тогда уже было вовне. Талант сиятельного поместил его в вымышленного друга, и только сейчас все вернулось на круги своя.
Я стал оборотнем. Стал оборотнем, и сердце вновь билось в моей груди!
Наследственное заболевание! Именно оно защитило от проклятия мертвого повара, именно из-за него он назвал выродками отца и меня.
Чувствуя, как понемногу отступает слабость, я поднялся с пола, пошатнулся и едва не упал, но успел упереться о стену. Взглянул на еще не исчезнувший белый рубец шрама, что протянулся поперек левой ладони, сорвал остатки чужой одежды и, пошатываясь, отправился на третий этаж.
За все эти годы я ни разу не заходил в комнату отца, все там оставалось, как в последний день его жизни в этом доме. Книги, личные вещи, одежда…
За одеждой сейчас и пришел. Пусть она оказалась сырой и слежавшейся, пахла пылью и давно вышла из моды, зато прекрасно подошла по размеру. Отобрав нижнее белье, брюки, сорочку и сюртук, я остановил свой выбор на добротных, слегка поношенных ботинках и вернулся на первый этаж.
Новое тело двигалось с недоступной пониманию грацией, казалось, кто-то управляет им за меня, и это поначалу даже пугало. Цвета сделались ярче, запахи усилились, и удавалось прочувствовать малейшие их нюансы.
Но делать этого не хотелось. В доме пахло смертью.
В доме пахло смертью, и задерживаться в нем я не собирался. Ни на час, ни на минуту. Ни на сколько.
В прихваченном из госпиталя портмоне обнаружились две десятифранковые банкноты и семь франков мелочью; деньги я переложил в карман старомодного сюртука, бумажник кинул на пол и вышел на улицу.
Небо прояснилось, солнце светило через туманную дымку, и по привычке захотелось нацепить на нос темные очки, но те остались в госпитале.
В госпитале – как и вырезанное у меня сердце. Интересно, приживется ли созданный воображением морок у наследницы престола? Впрочем, почему нет? Мне он служил верой и правдой долгие годы.
Я усмехнулся и вышел за ограду. С благодарностью глянул на башню, ржавую, железную, неприглядную и ничуть от вчерашнего разгула стихии не пострадавшую, развернулся и начал спускаться по склону холма во вновь затянувшее город серое облако смога.
На Дюрер-плац обошел стороной расколотую чашу фонтана с толпившимися кругом зеваками и отправился гулять по городу, никуда специально не стремясь, просто привыкая к непривычным ощущениям и наслаждаясь новой жизнью.
Ноги сами привели меня в греческий квартал, я постоял на набережной безымянного канала, посмотрел издали на варьете «Прелестная вакханка» и вдруг понял, что просто не могу пройти мимо.
Альберт Брандт был моим единственным другом. Он понимал меня как никто другой, и было неправильно позволить нашим отношениям закончиться из-за козней суккуба.
Нас обоих обвели вокруг пальца; мы оба наломали дров! Поэт настаивал на дуэли, я отправил его в нокаут броском бильярдного шара, но все еще можно было исправить. Еще можно отыскать нужные слова. Можно и нужно!
Я знал это наверняка и все же неуютно поежился, проходя внутрь.
– Альберт у себя? – спросил у прибиравшегося в баре племянника хозяйки.
Если тот и обратил внимание на произошедшие в моем облике изменения, то виду не подал.
– Поэт-то? – переспросил, протирая пивную кружку, и покачал головой: – Съехал поэт. Утром съехал.
– Как – съехал? – обмер я, и по левой стороне грудины растеклась болезненная ломота.
– Совсем съехал, – спокойно ответил парнишка. – Все какой-то слепой девице о весеннем Париже и ночном Лондоне соловьем заливался. А извозчику, сам слышал, в порт гнать велел.
Я сделал глубокий вздох, заставил себя успокоиться и полез в карман за мелочью.
– Налей мне…
– Лимонада? – привычно предположил племянник хозяйки.
– Нет, – резко бросил я, выкладывая на прилавок пятифранковую монету. – Налей водки. Русской.
Безмерно удивленный этим выбором паренек с расспросами приставать не стал, послушно наполнил хрустальный графинчик, рядом выставил стопку. Я вышел на улицу, встал за столик под тентом, плеснул себе водки и надолго замер с рюмкой, поднесенной к лицу.
Наконец слегка пригубил, сморщился от омерзительного вкуса крепкого алкоголя и со стуком опустил стопку на столешницу. Постоял, резким толчком опрокинул ее набок и решительно зашагал прочь.
У новой жизни оказался знакомый привкус разочарования, но я не собирался растрачивать ее на пустые сожаления. Меня ждали великие свершения; великие свершения – и никак иначе.