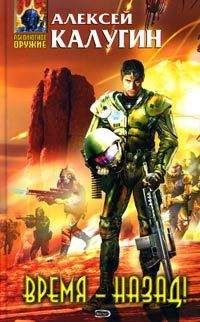К. Димитру - Рецидив жизни
В любом случае, то, что нас уже ищут, почти не вызывает сомнений. Конечно, они не могут бросить остальных мертвецов и всем взводом отправиться на наши поиски, но хотя бы пару человек по нашему следу наверняка уже отправили.
А следы от нас остались хорошие. Хоть снег в поле и подтаял уже, превратившись в кашу, но не заметить на нем отпечатки двух пар ног просто невозможно.
Интересно, солдат Соломин понял, для чего я прострелил ему ногу и убил двух ни в чем не виноватых мертвецов? Сложилась ли в его голове нужная легенда? Надеюсь, что да.
Смыслом Аниной жизни была любовь… Да, наверное, так оно и есть. Потеряв любовь, она потеряла смысл жизни. Бедная девочка!..
Я начинаю медленно подниматься, киваю Анне, давая понять, что нужно двигаться дальше. Мы залежались.
Плохо, что в лесу до сих пор хорошо сохранился снег, потому что мы оставляем на нем слишком недвусмысленные следы.
Остается слабая надежда на привычный нашей стране бардак и всеобщий пофигизм, который может стать причиной того, что по нашему следу просто не пойдут. Ну нахрена, скажите на милость, им нужны два умертвия? Просто отомстить? Судить и приговорить к пожизненному заключению? Ха-ха!
— Чего улыбаешься? — спрашивает Анна, встав передо мной.
— Да так, — отмахиваюсь я. — Своим мыслям. Так ты изменила бы что-нибудь в своей жизни, если бы реально воскресла? — повторяю я свой вопрос.
Она задумчиво пожимает плечами.
— Нет, наверное, — говорит ее рука через минуту.
— Надо же! Ты счастливый человек! — отмахиваю я.
Она отворачивается и быстро идет вперед. Я догоняю ее, дергаю за рукав:
— Прости.
9
Мы идем по этому нескончаемому лесу очень долго. Я стараюсь держать направление на запад, туда, куда медленно, еще медленнее, чем мы, движется бледно-серый круг солнца по серому небу. Не слышно пения птиц, не слышно чавканья снега под нашими ногами.
В детстве я часто с любопытством смотрел на маму, думая, каково это — ничего не слышать. Часто, по-детски неразумно и зло, подшучивал над ней. Бывало, затыкал наглухо уши и ходил так по улице, желая почувствовать себя в маминой шкуре.
Но тогда мне не было никакого дела ни до пения птиц, ни до скрипа снега под ногами, поэтому я не мог по-настоящему прочувствовать беззвучие.
Я знаю, что лагерь находится километрах в шестидесяти на восток от города. Когда-то там была настоящая зековская зона, но когда мертвецы стали страшнее для живых, чем живые убийцы, воры и грабители, обитателей зоны быстро-быстро расформировали кого куда и отдали территорию под лагерь для рецидивистов.
Шестьдесят километров — это очень много. Но мы можем пройти только сорок и, взяв чуть на север, добраться до Березняков и хотя бы временно отсидеться на родительской даче. В крайнем случае мы можем добраться до Волковатово — это еще ближе, — где живет с недавних пор мой старый друг Илья. Но это действительно — на самый крайний случай, потому что явиться к Ильюхе в таком виде…
Илья работал в роддоме, акушером-гинекологом. Половина женской половины города рожала в его мощные руки, некоторые и не по одному разу, и готовы были не рожать до последнего, если попадали не в его смену.
Там, в роддоме, Ильюха и нашел себе жену, сразу с новорожденным. И бросил к чертям работу и уехал за женой в деревню, где и трудится теперь земским врачом. Вот надо оно ему было!..
Ну и наконец, если повезет, мы можем добраться до города. Не знаю, как родители Анны, но мои-то примут меня. Вот только идти домой хочется еще меньше, чем к Илье. Ильюха закадычный друг, но все же, как ни крути, чужой человек, и его психологическая травма при виде меня не пойдет, конечно же, ни в какое сравнение с материнской. Да и меня его травма волнует не так сильно, как шок родителей…
Мы идем долго, весь день. Солнце уже клонится к земле, когда лес резко заканчивается, словно обрезанный разбитой дорогой, идущей по его краю.
Первое, что мы делаем — это падаем на колени возле ближайшей лужи и долго, ненасытно, пьем.
Пока мы шли лесом, вокруг было полно снега. Но толку от него ноль, потому что превратить его в воду мы не в состоянии. Можно сколько угодно набить его в рот, но если температура во рту такая же, как температура снега…
А лужицы в лесу попадались крайне редко, так что в любой момент мы могли…
Я знаю, что произойдет, если мы останемся на длительное время без воды. Я видел мертвецов, лишенных питья, но я не знаю, что они чувствовали и умирали ли они, так же, как от выстрела в голову. Я видел только их иссохшие тела, глаза, которые превращались в сморщенные высохшие кусочки мертвой плоти, которые трескались, лопались и в конце концов выпадали из глазниц, повисая на ниточках иссохших мышц и кровеносных сосудов. Высыхала и лопалась кожа, мышцы превращались в тонкие веревки, не способные к сокращению, крошились кости… Да, конечно, мозг наверняка погибал окончательно, превращаясь в болтающуюся внутри черепа высохшую серую массу.
Жажда — это наше единственное желание, единственная потребность, которая и ощущается совсем не так, как у живых людей. Жажда испытывается не организмом, которого, по сути, и нет, а — мозгом. Это не боль, не дискомфорт, не осознаваемое желание — это… жажда.
Напившись, мы оглядываемся по сторонам.
Впереди и влево видна деревня, небольшая, домов на пятнадцать-двадцать. Наверное, раньше здесь была колония-поселение. А может быть, здесь жили те, кто работал на зоне.
В деревню идти нам незачем.
Нам и на дачу незачем. И в город.
Нам вообще незачем куда-то идти. В идеале нам лучше всего уйти в какую-нибудь глушь, где нас никто никогда не найдет, поближе к реке или озеру, и там провести остаток отведенной нам вечности, без потребностей, болезней, обязанностей, желаний…
Я плохо представляю себе дальнейшее существование. Что я буду делать целую вечность, или сколько там может «прожить» рецидивист. Вечность без сна, еды, телевизора, секса, книг, компьютера… Просто вечность — медленная и не прерываемая ничем.
Это страшно.
— Мы пойдем в эту деревню? — спрашивает Анна.
— Нет. Зачем…
Она все никак не избавится от стереотипов и рефлексов прежней жизни. Видя деревню, путник должен возрадоваться и идти туда в надежде найти кров на ночь, еду, тепло и разговор.
Но нам ничего этого не нужно. Единственное, зачем мы могли бы пойти к людям — это вода. Но сейчас весна, и на открытых солнцу местах полно луж.
— Переночуем там, — говорит Анна, чем вызывает у меня приступ беззвучного смеха.
Впрочем, девочка, может быть, только вчера умерла и еще не знает, что у рецидивистов нет никакой потребности в сне.
— Мы не спим, — говорю я. — Никогда.
Она смотрит на меня недоверчиво. Наверное, она действительно только вчера умерла.
— Мертвым не нужно спать, — объясняю я, — не нужно есть, дышать и бороться за выживание.
— Ну а волки?
Меня снова тянет сложиться пополам от смеха, но я только бросаю на нее насмешливый взгляд и говорю:
— Волки не питаются падалью.
— И вообще, — добавляю я, подумав. — В деревне могут быть солдаты. Наконец, у любого из мужиков может оказаться ружье… Нам лучше держаться от людей подальше.
«Падалью… — читаю я по ее губам. — Падалью… Падалью…»
Мне становится безумно жалко ее.
— Какого цвета твои волосы? — спрашиваю я.
Она удивленно смотрит на меня. Потом неуверенно отвечает:
— Я брюнетка. Натуральная.
— Ты красива, — улыбаюсь я.
Она смущенно отводит глаза, бросает:
— Спасибо.
— Хорошо, — говорю я. — Мы зайдем в эту деревню. Попросим бутылку воды на дорогу. Но если там окажутся солдаты, мы умрем по-настоящему.
— Разве ты этого не хочешь?
Я киваю: «Ну ладно…»
Мы направляемся к деревне и заходим в первый же двор. При виде нас рыжий пес растерянно замирает, потом, поджав хвост, прячется в конуру.
Я подбираю с земли какую-то щепку и на тонком слое снежной каши, перед крыльцом, пишу: «Пожалуйста, дайте нам бутылку воды».
Колодец, стоящий в стороне, я игнорирую: не наливать же воду в карман.
Потом стучу в дверь. Стучать приходится долго. Возможно, с той стороны произносят традиционное «Кто?», но я не в состоянии услышать.
Наконец, дверь приоткрывается и в образовавшейся щели я вижу лицо пожилой женщины.
— Чего надо? — читаю я по ее губам.
Сойдя с крыльца, указываю ей на сделанную надпись. Она подслеповато щурится, не может, наверное, разобрать с такого расстояния мою писанину.
— Чего там?
Я жестом показываю «Пить!» и снова тычу в надпись на снегу.
Она пожимает плечами, неуверенно открывает дверь пошире, выходит на крыльцо, наклоняется, пытаясь разобрать мою писанину.
На ее пальцах я вижу синие буквы татуировки: «КАТЯ». Кажется, у бабки была лихая молодость.