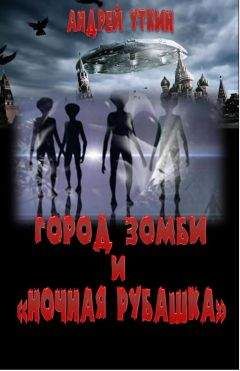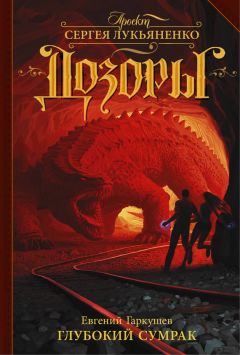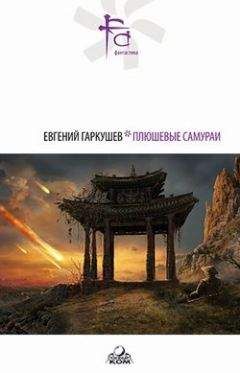Евгений Гаркушев - Авалон-2314
– И зачем тебе все это сейчас? – поинтересовался он. – Я вот купил в кредит «Мазерати», и доволен. Тебе не кажется, что жизнь должна состоять из разовых акций?
– В каком плане?
– Напрягся, сделал что-то полезное, достиг цели – и ушел на новый уровень.
– На какой еще новый уровень?
– Зависит от настроения. Может быть, ушел управлять государством. А может, наоборот, сажать капусту. Приятное занятие, наверное. Я вот овец недавно пас.
– И как? – поинтересовался Дима.
– Надоело.
– И что ты сделал?
– Прилетел сюда.
– Меня тренировать?
Хонгр расхохотался.
Сумасшедший, что с него взять? На владельца «Мазерати» китаец уж точно никак не тянул. Врет, конечно. Где сейчас ездить на автомобиле? Особенно на Луне.
Но что-то в этом человеке заставляло Соловья слушаться его беспрекословно. Не кулаки, нет. Сильнее тот, кто умнее, а не тот, у кого крепче мускулы. Хонгр был уверен в себе и в своем превосходстве. И за это Дима не любил его еще больше. Но деться от узкоглазого громилы было совершенно некуда.
* * *
– Вы ведь не курите? – спросил Гумилев, когда мы плотно пообедали в роботизированном кафе в центре города.
– Не курю.
– А я еще не бросил. Не возражаете?
– Нет. Правда, в мое время в кафе было запрещено курить. Особенно ближе к концу жизни. А сейчас персонал может возмутиться.
– Роботы?
– Ну да. Они вполне могут сделать замечание. Меня вот недавно обругал мусоровоз.
Николай Степанович осмотрелся.
– Противопожарных систем не заметно. А крик, конечно, могут поднять.
Я засмеялся. Не иначе, поэт когда-то попадал под разбрызгиватель противопожарной системы. Гумилев тоже хмыкнул.
– Поговорим о вашем задании?
– О Ницше? – уточнил я.
– Нет. Галахад придает слишком большое значение моей скромной персоне. Мне неловко, что я напрашиваюсь, но лучше самому назначать место и время, не так ли?
– Галахад полагает, что я могу вас в чем-то убедить? Правильно я понял?
Николай Степанович затянулся, выпустил дым в сторону открытой форточки и ответил:
– Пожалуй. Представители «Авалона» обещали познакомить меня с симпатичным большевиком. Человеком из народа. Вы и есть тот человек.
Я едва не поперхнулся компотом:
– Вы считаете меня большевиком?
– Во всяком случае, Галахад рассказывал, что ваши деды и прадеды были коммунистами, а бабушка вообще преподавала марксизм-ленинизм.
А ведь и в самом деле. Преподавала. Историю государства и права, просто историю. Ну, наверное, и марксизм-ленинизм тоже. Только я никогда не рассматривал это преподавание как сколько-нибудь значимую черту ее жизни. Она была эрудированным историком, отличным учителем, прекрасным человеком, но совсем не догматиком. Хотя за компартию голосовала до самой смерти, когда коммунистов уже отстранили от власти более удачливые представители той же партии, вовремя сменившие лозунги.
– Вынужден вас огорчить, в коммунистической партии не состоял. Правда, был комсомольцем.
– И правильно. Вряд ли я стал бы общаться с настоящим коммунистом, – ответил Гумилев. – Они, знаете ли, меня расстреляли.
– Знаю, – без особого энтузиазма ответил я. Как еще нужно отвечать на такие заявления? С улыбкой? – Читал. Правду говорят, что кто-то из ЧК предлагал вам «идти домой», узнав среди прочих?
– А вы как думаете?
– Думаю, нет. Хотел бы спасти, нашел бы способ. Да и такой широкий жест мог выйти ему боком. Расстреляли бы как пособника врага народа.
– Надо заметить, вы не заблуждаетесь относительно нравов ЧК, – усмехнулся Гумилев. – Людоеды похлеще африканских.
– Так ведь я и не записывался в адвокаты. Не знаю, отчего Галахад решил, что я могу защищать чрезвычайную комиссию или проповедовать коммунистические идеи.
Гумилев тихонько постучал трубкой по столу.
– А ведь вы хотите, чтобы ваши родственники были воскрешены?
– Конечно. Для этого есть препятствия? – спросил я.
– Именно. Лица, занимавшие руководящие посты в тоталитарных государствах, и даже члены партий, признанных экстремистскими, не подлежат воскрешению без решения специальной комиссии. Причем решения принимаются отдельно по каждой личности. А комиссия как раз-таки и создается из жертв деятельности партий, организаций и режимов. Она определяет процедуру воскрешения и воспитательных работ, делает исключения и создает правила.
Выходит, многие мои родственники попадают под закон, который только что упомянул Гумилев. Отец и мать были беспартийными, а вот остальные в данный момент не подлежали воскрешению как организованная политическая группа.
В разумности такой позиции общества не откажешь. Если не брать тему моего Отечества, а обратиться, скажем, к Германии двадцатого века, легко просчитать возможное развитие событий. Пусть воскрешают всех – в том числе и солдат, офицеров, генералов. Сотня, тысяча – и вот мы имеем погибшую где-то на Восточном фронте дивизию СС в полном составе. Эти люди организованны, имеют свою идеологию и убеждения. Они не видели мира после войны. Любые заявления о преступлениях нацистского режима эти солдаты воспримут как вражескую пропаганду.
Что помешает им собраться и устроить переворот в таком уютном и сравнительно беззащитном новом мире? Даже несколько миллионов организованных людей – страшная сила, пусть им и противостоят разрозненные миллиарды. Армии как таковой сейчас нет, полиция действует мягкими методами, системы охраны роботизированы. И главное, нынешние люди отвыкли воевать. Они боятся крови, боятся ответственности. А многие люди прошлого только тем и занимались, что воевали, устраивали революции и перевороты, боролись с внешними и внутренними врагами!
А если взять всех погибших в Отечественной войне с нашей стороны? Позволят ли они воскрешать фашистов? Маловероятно. Не таким они видели мир будущего, где рай получает каждый… И в организованности им не откажешь, а вожди всегда найдутся, была бы цель.
А сколько войн случилось до Второй мировой, сколько национальных и идеологических общностей было порабощено, уничтожено, остановлено в развитии? Что будет, если дать им второй шанс, возможность учиться, овладевать новыми технологиями? Те же американские индейцы могут устроить такое – мало не покажется. Мы ведь, в сущности, очень мало о них знаем!
– Вы задумались, Даниил, – констатировал Николай Степанович. – Над чем?
– Над тем, какая огромная работа проделана нашими потомками. Мы, люди из прошлого, имеем все возможности войти в новый мир полноправными членами. Уверен, система сдерживания и противовесов имеется. А нам предстоит разработать такую систему для своих предков. Так?
– Так. И Галахад отчего-то хочет, чтобы я выступил совестью своего поколения, – задумчиво, даже несколько отрешенно, проговорил Гумилев. – Убедил тех, кто погиб в Гражданскую, понять и простить. По его мнению, если прощу я, другие просто обязаны поступить так же. И что все прислушаются к моему мнению.
Я взглянул в глаза Николаю Степановичу:
– Не все простят вместе с вами. Но ваш пример будет показателен для многих.
– Да вы знаете, сколько у меня было врагов и недоброжелателей? – усмехнулся Гумилев.
– Но вы пали жертвой режима, – ответил я. – Ваши стихи были запрещены десятки лет. И вы не прогнулись под системой. Не писали о Христе, бредущем перед революционными апостолами. О паспортине, которую с гордостью достает из кармана гражданин Советского Союза.
– Простите, о чем? – насторожился Гумилев.
– О паспорте.
– Ясно. Маяковский? – засмеялся Николай Степанович.
– Да. Его тоже убили, скорее всего. Хотя, по официальной версии, он покончил с собой.
– Страшное время, – вздохнул поэт, поднимаясь из-за стола. – Смутное время. И вы полагаете, что те преступления должны быть забыты?
– Нет, конечно.
– Уже хорошо, – заявил Гумилев, поднимаясь и вешая на плечо винтовку. – Какими будут наши дальнейшие действия? Я бы сходил в баню. Уже три дня в дороге.
Признаться, я слегка опешил. Есть ли сейчас бани? Почему нет? Вряд ли душ заменил парную ее любителям. Слишком долго она держалась. Баня – философия, а не способ помыться…
Спросить поэта, откуда он едет три дня, я не решился. Захочет – скажет. Может быть, из Австралии? Или из Африки – без использования баллистических снарядов и самолетов, «на перекладных»? Ведь с помощью воздушного транспорта сейчас можно добраться в любую точку планеты часов за двенадцать-пятнадцать.
* * *