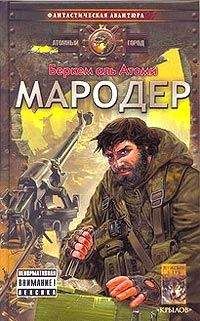Беркем Атоми - Мародер
Кирюха молчал, злобно глядя куда-то в себя. Ахмет немного подождал и поднялся:
– Ладно, пора мне. Че-то ты сегодня грустный.
– Загрустишь тут. Не, сучары, почему нас хоть теперь в покое не могут оставить, а? Пидар-р-расы!
Ахмет не ответил и пошел до дому, думая о том, что Кирюха, похоже, сегодня нажрется.
Два дня занимался по хозяйству, переделал все отложенные дела, сводил пса на озеро, даже подровнял бороду. Утром третьего снова пошел к базарным. Погода успела смениться, антициклон ушел, то и дело с неба начинало сыпать мелкой осенней моросью. Ахмет ежился, бредя по мертвому городу в утреннем тумане. Видимость была отвратительной, приходилось больше полагаться на слух и весь путь держать РПК наизготовку. Караул базарных проморгал его визит, и Ахмет не отказал себе в удовольствии – спрятавшись за торчащим из стены ригелем, дождался смены караула и только тогда громогласно объявил о своем присутствии. Сменяющийся караул проводил его ненавидящими взглядами – скрыть прокол у них не получалось по-любому, и старшему теперь не миновать Кирюхиного кулака. …Ничего, на некоторых Домах за это вообще вешают, – злорадно подумал Ахмет, поднимаясь на второй, к хозяйскому кабинету. – Ишь, расслабили булки… Хозяин базарных, оказывается, уже встал и спустился помыться во двор. Орехов, старый Кирюхин охранник, предложил обождать в караулке и начал ворчать, едва Ахмет переступил порог.
– Ахмет, ты вот че хозяину мозги ебешь ходишь? Тебе делать, что ли, совсем не хуя… Он потом ходит злой как собака, вон, ты шел – видел, болтается?
– Че, вздернули кого?
– А ты не видел как будто… Конечно, вздернули, не сам же вздернулся.
– На улице туман, не видать ни хера. Да я и не смотрел на ворота, ты ж знаешь, что я не с той стороны прихожу. Кого там вздернули-то?
– Да Женьку-столяра. Царство ему небесное, балбесу…
– А че натворил-то? Кирюха просто так по морде-то не выпишет, не говоря уж про вздернуть.
– Не скажи. Третьего дни, как ты ушел, так и началось. Закрылся, весь день ему Осетин бухло отправлял, к гостям не выходил, Немца не пускал. Даже баб на ночь не позвал, утром встает – медведь медведе́м. Глаза красные, сам еще злее, чем со вчера. К вечеру смотрю: вроде отходить начал. И глядит уже не исподлобья, и со мной нет-нет, а словом перекинется, а тут, как на грех, Женьку и угораздило.
– Че угораздило-то?
– А караван они провожали, вчера караван заходил – челябинские на Уфалей, без ночевки. Ну, проводили, вертаются. Женька в свою комнату зашел, и че-то они с татарчонком новым зацепились опять. Я вот сколько уже говорил хозяину – рассели от греха! Нет, как об стенку горох… Ну, Женька-то сгоряча, видать, за нож и схватился. И порезать-то толком не успел, растаскивать уже начали… Мимо, как на грех, – хозяин. Кровь увидел, взбеленился: «Ножи?! На ворота обоих!» Башкой мотнул – и дальше. Немец-то за ним кинулся, да куда там! Только татарчонка и отмазал, что нож-то один был, у Женьки.
– Дела…
Посидели молча, под укоризненное кряхтение поминутно ерзающего в кресле Ореха. Наконец в коридоре послышались тяжелые шаги Кирюхи.
– Здорово, сосед.
– Здорово, Столыпин.
Кирюха дернулся, придавил языкастого соседа тяжким взглядом. Приощерился было, хотел что-то рыкнуть, но удержался.
– Андреич, скажи Осетину, чтоб завтрак сюда отправил, – и вернул взгляд на Ореха. Видимо, тот спросил глазами насчет Ахмета. – Да. На этого халявщика тоже.
Кабинет Кирюхи – да, это было нечто. Он не только выставлял на всеобщее обозрение все комплексы хозяина, но и, что называется, внушал. Видимо, где-то под бугристым солдатским черепом таились нешуточные таланты пиарщика – на севшего в гостевое кресло посетителя обрушивались удивительно точно дозированные потоки сигналов, заставляющие слепо, на символическом уровне уверовать в могущество, богатство и силу хозяина этого помещения. Кирюха опустился в глухо хрустящее огромное директорское кресло.
– Подумал я тут. Знаешь, мне в голову ничего не приходит. Хоть так, хоть эдак – труба. Зачистят нас всех по-любому, и дрыгаться бесполезно. Химией, бактериологической ли мерзостью какой, или той херотенью, помнишь? арсенал эрвээсэновский которой зачищали? Ну, без разницы. Короче. Буду пока жить как раньше, а изменится что, тогда и репу чесать.
– То есть Жорику просто скажешь, что некогда тебе хуйней страдать, и предложишь немного кабеля?
– Нет. Сначала я кабель ему постараюсь продать, а пошлю уже потом.
Ахмет четко ощутил, что у Кирюхи созрел план: если че – свалить из Тридцатки. …Ежу понятно – об этом он и на ТАПе не обмолвится. Значит, беседы окончены. Пожрем, позубоскалим и разбежимся.
– Ну, от сердца отлегло. Снова ты бодрый и алчный, каким и останешься в благодарной памяти потомков. А я уж грешным делом подумал – спекся от многочисленных моральных травм, несовместимых с жизнью. Пьешь вон из горла, подчиненных умерщвляешь… – Ахмет, нырнув между фундаментальным письменным столом и портьерой, извлек полупустую коньячную бутылку. Выдернул от души вбитую пробку. – У-у, че мы хаваем-то в одиночку…
Кирюха тоже почувствовал, что его позиция вычислена и напряга у соседа не вызывает. Казалось бы, ну что хозяину огромного мощного Дома отношение к его затее едва ли не одиночки. Но Кирюха отчего-то ощущал облегчение и потому благодушно поддержал тон:
– Эт почему из горла? Из горла да из плошек собачьих только вы, черномазые, водку жрете… – и извлек из недр стола две изящные коньячные емкости. – А мы, белые люди, вот… Слушай, Ахмет, я вот заметил – почему так? Ведь ты практически не пьешь, а стоит тебе куда заявиться, так пьянка не прекращается. А? Ты типа ушлый, да? Провоцируешь, чтоб люди болтали?
В дверь поскребся и, не дожидаясь ответа, просунул настороженную мордочку Сережик. Оценив ситуацию как безопасную, что тут же проявилось в радостной улыбке, он шустро расставил на столе завтрак, виртуозно вымогая чаевые каждым движением.
– От сучонок… На, держи! И давай с кофеем не тяни! Мухой!
Пятерка словно растаяла в воздухе, и Сережик испарился – сегодня его день начался довольно неплохо.
– Бля, ты только глянь на поганца, – умилился Кирюха. – Разводит всех как не хуй делать. Мне Осетин говорил, знаешь, сколько он за неделю имеет? Рожок-полтора, а когда и два, понял?
– Ни хера себе. А куда девает?
– Да никуда. Живет-то на всем готовом. Ныкает где-то, мы тут с Немцем смеемся, наблюдаем, как его парни раскулачить пытаются. Бесполезно, ты понял? Кто только не пробовал! Ну, давай, что ли. За то, чтобы мы были как этот пацан – чтоб на нас где сядешь, там и слезешь.
– Давай. Хороший тост… заодно убиенного помянем.
– Бля буду, Ахмет, ты допиздишься когда-нибудь!
– Ладно, сам не пизди. Давай.
– Давай.
Возвращаясь от базарных, Ахмет ненадолго ослабил поводья и выпустил из-под всегдашнего контроля эмоции. Внешне это выразилось в совершении серии пенальти по окнам мервых домов, не без блеска исполненной разным мусором. Впрочем, было заметно, что это отнюдь не спонтанные порывы души – мусор для каждого удара весьма осмотрительно выбирался из ряда соискателей должности мяча. Футболист явно жалел обувь да и выказывал слишком несообразную для пинка, что называется «в сердцах», заинтересованность в точности попадания. Добившись размягчения набухшего в груди комка злобы, перемешал ее с глубоким вдохом и вытолкнул вместе с рычанием:
– Да и хуй на тебя, баран, бля, тупорылый!!! Сиди, бля, жди, еб, когда тебя пидарасы эти зачищать придут! Жди, баран, бля! А я съеду, сука, сам! Без тебя, долбоеба!!!
Полегчало, и значительно: только что кипевшая в груди злобная кислота раздражения испарилась бесследно. Правда, после рыка саднило в горле, сбилось дыхание, перед глазами мельтешили полупрозрачные сиреневые пятна; но и эффект налицо – внутри головы больше не зудит воспоминание о свежем обломе. Вернулись и возможность, и желание подумать над дальнейшими действиями, причем желание что-то придумать многообещающе сочеталось с ироничным безразличием к последствиям задуманного; обычно именно это сочетание и вызывало к жизни самые наглые и удачные решения.
Собаки, наблюдавшие из развалин за знакомым со щенячьего возраста человеком, были поражены – таким они не видели его никогда. Оказывается, он так же, как и любая собака, может бояться, от чего-то страдать, злиться после неудачной охоты… Такое бывает, когда ты болен либо ранен. А коли так, то нормальной отмашки ты не дашь. Значит, теперь одна тебе дорога – в желудок здорового и сильного. О-о, да он еще и идти не может!
На самом деле, Ахмет присел на плиту рухнувшего балкона, решив выкурить трубочку под нахлынувшее креативное состояние – авось придет в голову что полезное. Не сказать, что это было мудрое решение; человека, решившего посидеть в одиночку посреди псиного царства, он сам назвал бы нарывающимся идиотом, но… Слишком долго он здесь ходил, и псы не показывались ему на глаза, предпочитая не лезть на рожон. Объяснялось это просто – с тех самых дней, когда собаки впервые заявили о себе, Ахмет передвигался по мертвой Тридцатке, гоня перед собой искусственно создаваемую волну холодной, бесстрастной злобы. Встретившись глазами с собакой, Ахмет красочно представлял себе, как он рвет ее тело, вспарывая руками полости, перекусывает тугие, фыркающие алой кровью артерии, – и пытался приблизиться. Собака, как правило, сваливала без малейших попыток огрызнуться; непонятливым либо огрызающимся доставалась пуля или заряд картечи с непременным обоссыванием трупа – по собачьим понятиям, нечто вроде росписи. Идя, он шарил по руинам взглядом Медузы Горгоны, притворяясь до полного порой самогипноза каким-то огромным чудищем, питающимся исключительно собаками. Надо сказать, что сперва получалось не всякий раз, но со временем поддержание этого поля отточилось, вошло в привычку и даже перестало осознаваться. Словом, Ахмет привык, что собаки к нему не лезут.