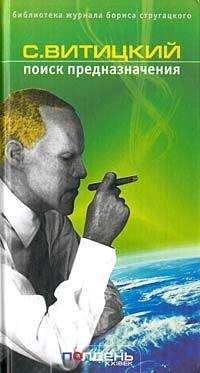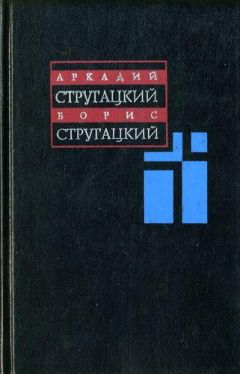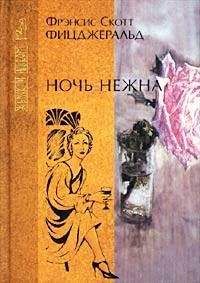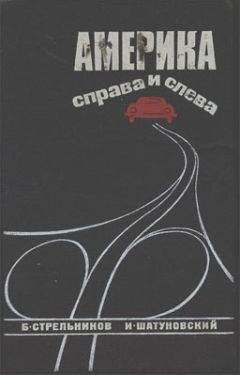Борис Стругацкий - Двадцать седьмая теорема этики
— Грейпфрут. Гораздо вкуснее. Но — старый. Горьковатый.
— Не хочешь рассказывать?
— Не очень. Надоело. О Николасе опять.
Она хмыкнула, и он посмотрел на нее сквозь прижмуренные веки. Она озабоченно морщила малозначительный свой лобик, и это делало ее трогательно-некрасивой.
— Чего вам от него надо — я никак не пойму? Он что, выдает какие-нибудь ваши тайны?
— У нас нет тайн. Выдавать нечего.
— Тогда что же? Выступает против вас?
— Против меня.
— Ну да? Вранье. Он же тебя обожает.
— Обожал когда-то.
— Все равно. Он честный. Он не станет про тебя врать.
— А он и не врет…
Как ей объяснить это? Она никак не способна была понять, хотя и пыталась самым честным образом: читала все газетные вырезки про его выступления, и все его статьи в «Обозревателе», и смотрела видеозаписи. Ее совершенно сбивало с толку то обстоятельство, что он никогда не врал. Он рассказывал правду, одну только правду, хотя и не всю правду. Он умел это делать. Он был профессионал, профессионал-самоучка. «Мои встречи с Хозяином». Забавные случаи. Поучительные истории. Заметки к портрету Великого Человека. Великого? Великого, великого, — без всяких сомнений Великого… Но при этом, когда он выступал, скажем, перед алкашами, перед Партией, скажем, Любителей Пива, он рассказывал им, какой утомительно нудный и высокомерный трезвенник этот Хозяин. А выступая перед трезвенниками, с веселым смехом и тонко разыгранным комическим огорчением — о единственном известном ему (и всему миру) случае, когда Хозяин перебрал малость джину с тоником и оскорбил действием британского культурного атташе… (А теперь вот: «Может ли поссориться Станислав Зиновьевич с Виктором Григорьевичем? Нет, нет и еще раз нет. Ибо к тому есть серьезные причины. Например, святость старой дружбы.» И дальше — на две минуты об отношении Хозяина к дружбе… Зачем? Что он имеет в виду? Намекает на что-то? На что?)
Он почувствовал ее пальцы у себя на лице.
— Только не убивай его, — прошептала она ему в самое ухо. Едва слышно. На пределе слышимости. Он не столько услышал ее, сколько догадался. — Не надо. Пожалей. Ведь ты его обидел.
Страшная штука — ревность, подумал он отстраненно. Подлая и коварная. Все видно. Ничего не скроешь. И — ни от кого.
— Лапка, — сказал он. — Что за мысли у тебя. Я и не думаю об этом. Клянусь.
— Я знаю. Но ты говорил, что тебе и думать не надо… что это само собой у тебя получается…
— Когда я это тебе говорил?
— Ну, не ты. Кто-то из твоих. Я подслушала.
— Меньше глупостей подслушивай. Они все — дурачки суеверные. Они эти глупости друг другу повторяют, когда им страшно становится. «Хозяин не выдаст. Хозяин всех врагов разразит и повергнет…» Они ничего не понимают.
— А ты — понимаешь?
— Нет. Тут и понимать-то нечего.
— Не обижай его, — снова сказала она. — Пожалуйста.
— Хорошо. Обещаю, — он снова закрыл глаза. — Рейтинг, черт его подери, все время падает… — пожаловался он. — Второй месяц подряд. Никто не может понять, в чем дело, вот и мучаемся, чепухой головы себе забиваем… Осрамимся, провалимся. Вот увидишь.
— А я знаю, откуда это, — сказала она радостно. — Это из «Каштанки».
— Точно. Молодца!
— Я в детстве думала, что он говорит: «Осрамимся, провалИмся», а они надо мной смеялись…
Она замолчала, тихонько массируя ему веки, и вдруг сказала:
— Это потому что ты стал думать о себе.
— То есть?
— Рейтинг падает. С самого начала ты думал о них и только о них, и они это чувствовали. Это сразу чувствуется. Тебе было все равно, что будет с тобой. А теперь… а теперь стало не все равно.
— И это тоже чувствуется?
— Да.
Он помолчал, пораженный ее словами. Потом спросил:
— И что мне теперь с этим делать?
— Не знаю. Вообще-то каждый нормальный человек должен думать о себе. Просто обязан. Как же без этого?.. Не знаю, что тут делать.
Что это у нее работает там, за витражами этих чудных многоцветных леденцовых глаз? Интуиция? Или — ум?.. Откуда у нее ум? Или ей вообще не восемнадцать лет, а все двадцать восемь, и кто-то ловко подложил ее под меня, а точнее будет: ловко подложил ее МНЕ, — как бомбу замедленного действия, обведя вокруг пальца всех: и меня, и Николаса, и Кузьму нашего Иваныча?..
Эй, эй, прикрикнул он на себя. Ты что это? Совсем оборзел? Это же Дина твоя, Динара. Последняя любовь. Верность. Нежность. Счастье… Очухайся. Подбери свой поганый язык… Причем тут, впрочем, язык? Как раз язык-то знает свое место и лежит тихо-тихо… Тут, брат, не язык, тут хуже, тут в мозгах порча завелась… И даже не в мозгах, а в душе, в душонке твоей, обремененной трупом…
Он чувствовал, что засыпает. И лень было встать и перебраться в свою спальню. И лень было по-настоящему, с пристрастием и беспощадно, заняться этой гнилью, которая последнее время завелась внутри и принялась помаленьку выедать все, что пока еще уцелело от прошлого: ум, честь, совесть… нашей советской эпохи… преобразований и побед, всегда в единстве с народом…
Он заснул.
Он проснулся (или очнулся?), словно от внезапного крика. Сердце дергалось и корчилось, будто повешенный на веревке. Но было совсем тихо, и он ничего не слышал сначала, а потом догадался, что это — интерком в соседней комнате, в его спальне.
Никаких резких движений, привычно вспомнил он. Медленно. Плавно. В три разделения… Он осторожно освободился от шали и не торопясь сел. Дина тихонько посапывала у него под боком, по-кошачьи прикрыв лаково-когтистой лапкой глаза. Бесшумно мерцал экран телевизора. И снова закурлыкал интерком — вежливый, но настойчивый и неотступный, как сам Кронид.
— Да, — сказал он, нажимая клавишу. В спальне у него было холодно, и сразу же, даже на пушистом ковре, озябли босые ноги.
— Извините, господин Президент, — сказал тихий голос Кронида. — Это — генерал Малныч. Срочно. Настаивает.
Так. Опять что-то с Виконтом… Господи, да почему же «что-то»? Ясно, ЧТО может быть с Виконтом. Не приглашение же на день рождения. Три тридцать на часах.
— Давайте его.
На экранчике появилось скуластое молодое лицо и раскосые, с азиатчинкой, глаза. Почему-то он был в форме, даже и при фуражке. Для важности, что ли? Он был осел.
— Станислав Зиновьевич, у нас очередной приступ.
— Ясно. Сильный?
— Очень сильный. Как позапрошлой зимой, и может быть даже еще хуже. Нам никак не удается стабилизировать мерцания…
— Хорошо. Я буду готов через пятнадцать минут. Высылайте машину.
— Уже выслали. Вертолет.
— Что?
— Вертолет, — повторил генерал Малныч. — Он будет у вас через тридцать, тридцать пять минут…
— Что за черт. Где вы?
— Мы на базовом участке. Это недалеко. Сорок минут лету.
Дина была уже здесь — принесла носки, штаны, туфли. Он принялся одеваться. Раздражение одолевало его все круче и наконец одолело.
— Черт бы вас всех подрал! — рявкнул он как на митинге. — Чего вы все стОите с вашими капельницами! Без знахарства — ни на шаг!.. Нашли, понимаешь, исцелителя себе! Парацельсия!.. Тошнит меня от вашей медицины, блевать хочется. Дармоеды, черт вас всех подери!..
Генерал молчал, смиренно и преданно поедая его глазами. Все шло, как обычно идет, если приступ случается в неудобное время. А он всегда случается в неудобное время. На то он и приступ.
Одной ногой в штанине, свирепея все больше, он отключил к чертям драным этого идиота в медицинских погонах и гаркнул Крониду:
— Слышали? Подготовить посадку!
— Есть подготовить…
— Полечу один. Все встречи на завтра — отменить… — Он увидел странное выражение на лице Кронида и спросил: — В чем дело? Что там еще?
— Ничего, — поспешно сказал Кронид, приводя лицо в порядок. — Ничего существенного.
Было ясно, что он уклоняется, что еще какая-то гадость там произошла — поймали кого-нибудь на взятке (в Липецком отделении), или пасквиль очередной вышел, или предал кто-нибудь, паскудник проворовавшийся… к черту, к черту, к свиньям собачьим… или — опять какую-нибудь мерзость запустили про Динару… Не желаю сейчас этим заниматься, завтра, завтра, послезавтра.
Он злобно натягивал сорочку, жилет, не глядя загонял ноги в туфли, Динара торопливо застегивала ему запонки на манжетах, сердце бухало так, что в виски отдавало, и голова была мутная, дурная, и как всегда в такие нехорошие минуты он вдруг обнаружил, что хуже видит.
Ему было страшно.
Очень не хотелось в этом признаваться самому себе, он беспощадно давил в себе поганые видения, но ему было ПО-НАСТОЯЩЕМУ страшно, как не бывало, может быть, с того, самого первого, Виконтова приступа (случившегося еще до новой эры)… Какие там еще мерцания? Что за мерцания такие? Почему? Не было раньше никаких мерцаний… Он, натужно кряхтя, зашнуровал туфли, распрямился, прикрывая веки, чтобы избавиться от проклятых звездочек и блесток перед глазами, и протянул назад руки, в рукава куртки, которую держала наготове Динара.