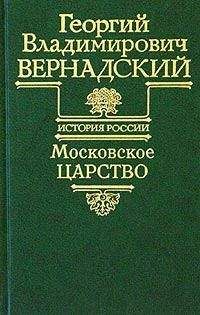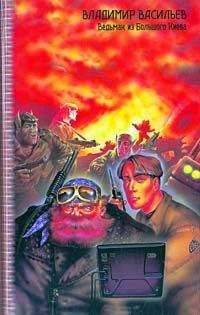Виталий Амутных - ...ское царство
— Тимур? — переспросил человек-дирижабль. — Собираетесь разгромить Золотую Орду? Шучу. Я историк.
Из шести столов на этот момент заняты были только два. Один — был охвачен исполинским телом Бориса Михайловича, тыкавшего своими оплывшими виноградинками-пальцами в маленькую оранжевую печатную машинку, и между делом отправлявшего нам с Наиной Военморовной телеграфно куцые фразы. Не смотря на свою экстраординарную внешность, он чем-то смахивал на господина Боброва, точно нарочно был создан в качестве живого гротеска, знаменующего недалекое будущее директора студии «Молох». Соседний стол, прилепившийся вплотную к столу Бориса Михайловича, занимал чахлый мальчик лет двадцати. Мальчик просматривал цветную газету с рекламными объявлениями, при этом рот на его зело беспородном лице был постоянно открыт. Спервоначалу могло показаться, что это необыкновенное внимание к важности поглощаемой им информации отделило нижнюю его челюсть от верхней; но нет, он живо реагировал на слова Бориса Михайловича, поддерживая их одобрительным смехом.
— Я уверена, Тимур, вам у нас понравится. Вам с нами непременно понравится, — не переставала тараторить моя спутница. — И мы хотели бы в вашем лице найти…
— Знаем мы, Наина Военморовна, — не отрываясь от печатной машинки, буркнул в нашу сторону Борис Михайлович, — что бы вам хотелось найти.
— Да? И что такого? И что такого? Вы то уже себе нашли! — с особой едкостью в голосе, но вместе с тем как бы мимоходом заметила Военморовна, сверкнув очками в сторону мальчика с газетой.
— Что вы имеете в виду?! — вдруг взвизгнул человек-дирижабль, отталкивая от себя машинку и одновременно подпрыгивая на стуле всеми своими полуторастами килограммов атеросклеротического сала; мальчик при этом, наконец, перестал смеяться, а рот его открылся еще шире. — На что это вы постоянно намекаете?! Вы, Наина Военморовна, все время норовите любого укусить, а не укусить, так хоть ущипнуть!
— Да что я такого сказала? Я ничего такого не имела в виду, и не сказала, — используя уже совсем иные интонации, пошла на попятную моя провожатая, будто еще энергичнее сверкая стеклами очков. — Да и что я могла сказать? Ничего.
— Вы, Наина Военморовна, очень злой человек, — от визга Борис Михайлович перешел к проникновенной укоризне, с горечью во взвешенной растяжке слов. — Вы очень плохой человек. Вы ядовитая гюрза. И Бог накажет вас. Вот увидите.
Полегоньку я стал отступать к выходу, — никто этого не заметил, поскольку все занятые в сцене были слишком обременены оттачиванием своего актерского мастерства. У самой железной двери я столкнулся с Ксюхой.
— Что они там?.. — удивилась она.
— Обмениваются нерастраченной энергией. Люди творческие, — понятно… — пояснил я. — Пойду. Ты еще остаешься?
— Ой, да. Мне еще тут Эмму надо бы повидать. Да, Бобров уехал в банк и просил тебе передать, что завтра можешь выходить на работу. Завтра у них летучка, — так что к девяти.
— А-а…
— Не волнуйся, все будет хорошо. Идем, я тебя выведу: сам ты с первого раза дорогу не найдешь.
Мы выступили в обратный путь. В убогом сером коридоре плавал аромат дорогих сигар. На повороте я обернулся: в светлом прямоугольнике отдаленного теперь дверного проема стояла невысокая коренастая фигура. Всего секунду человек смотрел нам вслед, — и исчез. То был Степан.
Ноябрьский день восхитил меня, лишь только я очутился на улице. Он был холодным и промозглым, да, но зато каким свежим! Он был неприютен и безотраден, но как мудр! Мельчайшая водяная пыль осыпала мое видавшее виды черное пальтецо, и я, чувствуя себя уже природной частью окрестного мира, полетел по холодному городу, радуясь невольно, что дышать можно глубоко, что строгая графика черных ветвей и плоских домов все же приятна глазу, а люди — это завтра, это, может быть, через сто лет… А сейчас только милостивые холод и пустота.
Гостиная вполне благополучного дома: отделка помещения, мебель, бытовая техника — все смотрится, если и не роскошно, то уж, во всяком случае, и не дешево.
Работает телевизор.
На прихотливом диване, скверно имитирующем стиль королевы Анны, Гариф Амиров заломил за спину руку девочки лет семи, кричит страшным голосом:
— Отвечай, где списки комсомольцев?!
Девочка, чудесная, насколько вообще может быть восхитительна красивая девочка ее возраста, верещит, захлебываясь, но сквозь это экстатическое верезжание можно разобрать слова:
— Нет… Я не скажу!.. Я ни за что не скажу!..
Гариф как бы усугубляет степень своего палачества, покусывая маленькую ручку:
— Говори, партизанка Зоя, где красное знамя?!
Заливаясь смехом, сквозь самозабвенные вопли девочке едва удается выдавить из себя:
— Ой, папа!.. Ой, не могу!..
— Какой я тебе папа?! — мефистофельски ревет Гариф. — Где красное знамя?! Признавайся!
— Хорошо… Хорошо, я все скажу!.. — кричит ему в ответ девочка. — Красное знамя в земле!
— Ну, так смерть тебе! — рявкает Гариф, дважды целует девочку в затылок и обессиленный падает на диван.
— Папа! Папа, — набрасывается на него девчонка и, поскольку папа валяется с закрытыми глазами без всяких признаков оживления, принимается прыгать на коленях по его обширной груди. — Ну, давай еще поиграем в партизанку Зою! Ну, давай! Ну, папа!
— Доча, — раскинувшись в позитуре полнейшего измождения, не открывая глаз, бормочет Гариф, — нет. У тебя разовьются садомазохистические склонности.
— Нет, папа, не разовьются. Ну, давай еще поиграем.
— Нет, рыба. Уже вечер. Перед сном тебе нельзя играть в буйные игры.
— Можно…
В комнату входит женщина в шелковом брючном костюмчике шафранного цвета, с синим ситцевым фартуком в разноцветный горошек поверх него. Выглядит женщина, может, несколько старше Гарифа; невысока ростом, не толста и не худа, внешности самой обыкновенной, — таких именно и выбирают в жены предусмотрительные мужи, с приходом того возраста, когда озорничать уже становится лень, и начинает тянуть к патриархальной семейственности.
— Ну что за идиотские игры у вас, — всплескивает женщина руками, в одной из которых зажат нож, а в другой — яблоко. — Настя, немедленно слезь с папы! Гарик, ну чем ты думаешь? Половина девятого. Ты же знаешь, что она потом до половины ночи будет колобродить. Настя, я же тебе сказала!
— Что нам, в шахматы играть? — ворчит Гариф.
— Шахматы — очень хорошее занятие, — подхватывает женщина, принимаясь чистить яблоко.
Отец семейства, наконец, принимает сидячее положение.
— Видишь, кабачок, и мама то же говорит, — обращается он к дочери.
— Но я же еще не иду спать… — начинает скулить Настя. — Я еще не ужинала. А ужин еще даже не готов…
— Ну-ну, — ухмыляется мать, — ты, оказывается, проголодалась? Не забудь, пожалуйста, об этом, когда сядешь за стол.
Женщина выходит из комнаты.
— Что ж, Анастасия, неси свои краски, — будем делать искусство, — говорит Гариф.
— Ура! Ура! Ура! — с готовностью выкрикивает дочь, уносясь в другую комнату. — Папочка, а давай будем рисовать прямо на стене, — у нас же обои моющиеся, — кричит она на бегу.
— Я вам нарисую на стене! — долетает из кухни.
Девочка приносит целую охапку необходимых для художественного творчества предметов: листы бумаги, коробку с гуашью, фломастеры, линейки, кисти и еще стакан для воды и какие-то лоскуты; причем весь этот скарб, прижатый ее маленькими еще пухлыми ручонками к груди, топорщится во все стороны, а отдельные штуковины то и дело падают на лакированный светло-желтый кленовый паркет. Вместе с отцом она раскладывает свое хозяйство на столе, как и диван претендующем на какое-то родство с фантазией Томаса Чиппенделя. Только они садятся за стол и принимаются за работу, как в комнате вновь появляется мать. Теперь у нее в руках миксер, а на плечо наброшено полотенце.
— Вы бы хоть клеенкой стол застелили, — восклицает она не без раздражения.
— Так, в чем дело? — поворачивает к ней голову супруг.
— Я говорю…
— Наташа, ты что там делаешь?
— Пирог.
— Так вот иди и смотри, чтобы он не подгорел.
Супруга Наташа фыркает, но без рисковой запальчивости, разворачивается и молча уходит.
— Что будем рисовать? — справляется у дочери Гариф, покусывая ее за ухо.