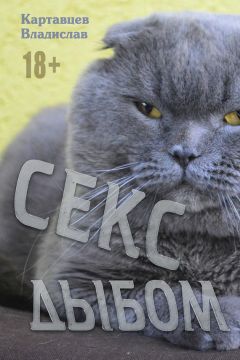Луи-Себастьен Мерсье - Год две тысячи четыреста сороковой
— А где же находится у вас Приют для бедных?{43}
— Приюта для бедных более не существует, так же как нет и Бисетра,[34] смирительного дома, где содержатся умалишенные, а лучше было бы сказать — сводимые с ума. Здоровое тело не нуждается в оттягивающих нарывах. Роскошь, подобно кислоте, разъедала самые здоровые члены тела нашего государства,{44} и оно сплошь покрыто было язвами. А вы вместо того, чтобы осторожно врачевать эти раны, еще растравляли их. Жестокостью вы мнили задушить преступность. Вы были бесчеловечны, ибо не умели создать хорошие законы.[35] Вам проще было терзать виновного и обездоленного, нежели предупреждать преступление и нищету. Ваша безмерная жестокость лишь ожесточала сердца преступников; вы дали отчаянию проникнуть в их души. И к чему все это привело? К слезам, крикам бешенства, проклятиям… Вы словно задались целью уподобить ваши смирительные дома той жуткой обители, которую вы нарекли адом и где безжалостные палачи умножали муки беззащитных, жалобно стенающих грешников, дабы злобно упиваться их стонами. Я долго мог бы говорить еще о сем предмете, но довольно. Скажу лишь одно — вы даже не сумели заставить нищих работать;{45} ваше правительство только и знало, что сажать их под замок, заставляя умирать с голода. И, однако, до нас дошли стенания тех несчастных, что умирали медленной смертью в одном из уголков вашего королевства; мы услыхали глухие их стоны; они проникли чрез толщу семи столетий, и одного этого примера столь гнусной жестокости достаточно, чтобы догадаться о тысяче других.
Я опустил глаза, мне стало стыдно: ведь я сам был свидетелем этих постыдных явлений, но мог лишь сокрушаться о них, ибо ничего другого не мог сделать.[36] Некоторое время я молчал, затем снова заговорил:
— Ах, не растравляйте ран моего сердца. Господь отплатил за злодеяния, причиненные тем несчастным; он покарал жестокосердных мучителей; вы знаете, что… Впрочем, поговорим о другом. Мне кажется, вы сохранили один из недостатков, которые свойственны были и нам: Париж, сдается мне, столь же густо населен, как и в мое время; доказано было тогда, что голова в три раза больше туловища.
— Я рад сообщить вам, — отвечал мой собеседник, — что количество жителей королевства{46} с тех пор увеличилось вдвое, что все земли у нас засеваются и, следовательно, голова ныне находится в правильном соотношении с членами. Но по-прежнему прекрасный этот город дает Франции столько же великих мужей, искусных, полезных и даровитейших людей, сколько все остальные города вместе взятые.
— Позвольте, однако, спросить еще об одной, довольно немаловажной вещи. Где помещается у вас пороховой склад? По-прежнему чуть ли не в самом центре города?{47}
— Мы не настолько неосторожны; довольно существует на свете вулканов, зажигаемых рукой природы, зачем же нам создавать еще искусственные, кои в стократ их опаснее?[37]
Глава девятая
ПРОШЕНИЯ
Я заметил нескольких чиновников, носивших на груди особые отличительные знаки; они собирали у горожан жалобы, чтобы доложить о них градоначальникам. Все дела, входившие в ведение полиции, разбирались чрезвычайно быстро: к слабым относились справедливо,[38] и все благословляли правителей. Я стал превозносить столь мудрый и полезный порядок.
— Но, господа, честь открытия этой системы принадлежит не вам одним. Еще в мое время в городе начинало налаживаться хорошее управление. Внимание бдительной полиции уже распространялось на все слои общества и касалось всех вопросов. Особенно способствовал порядку один чиновник,{48} чье имя заслуживает того, чтобы и вы помянули его добрым словом; среди выпущенных им указов был превосходный указ о запрещении вешать всякие нелепые тяжелые вывески, которые только портили вид города и угрожали жизни прохожих; он усовершенствовал, а вернее сказать, создал в городе ламповое освещение; он ввел в действие превосходный план быстрого действия пожарных насосов и с его помощью спас немало горожан от пожаров, столь часто тогда возникавших.
— Да, — ответил мой собеседник, — этот чиновник был человеком неутомимым и искусным в отправлении своих обязанностей, как ни обширны они были; но полиция была тогда еще весьма несовершенна. Шпионаж был главным прибежищем этого слабого, мелочного, не уверенного в себе правления. Обычно шпионы более руководствовались злобным любопытством, нежели мыслью о всеобщей пользе. Эти хитростью вырванные у людей секреты нередко представлялись ими в ложном свете и только вводили полицию в заблуждение. К тому же сия армия доносчиков, которых соблазняли деньгами, являлась источником заразы, отравлявшей все общество.[39] Прощайте, о сладостные излияния сердца! Не стало дружеских бесед: ради осторожности приходилось быть неискренним. Напрасно устремлялась душа к мыслям о благе отечества — ей невозможно было отдаться сему порыву: предвидя западню, она печально замыкалась в себе, одинокая, ничем не согретая. Люди вынуждены были беспрестанно лгать — лицом, жестами, голосом. Ах, как мучительно было для человека возвышенных мыслей видеть, как изверги с улыбкой душат его отчизну, видеть это — и не сметь назвать их имена.[40]
Глава десятая
ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ
— Но что это там, скажите на милость, за человек в маске? Как он спешит! Он словно спасается от кого-то.
— Это автор, написавший дурную книгу. Я имею в виду не недостатки стиля или остроумия: можно написать превосходную книгу, обладая лишь здравым смыслом.[41] Это только значит, что в книге содержатся опасные принципы, противоречащие здоровой нравственности, той всеобщей нравственности, которая открыта всем сердцам. В наказание за это он и носит маску, дабы сокрыть свой стыд, и сию маску будет носить до тех пор, пока не искупит своей вины, написав нечто более разумное и достойное. Каждый день его навещают два добродетельных гражданина; действуя мягкостью и убеждением, они оспаривают его ошибочные взгляды, выслушивают его возражения, отвечают на них, а как только им удается его разубедить, предлагают отречься от своих мыслей. Тогда он вновь обретет свое доброе имя, а раскаянием своим заслужит еще большую славу: ибо что может быть прекраснее, чем отречься от заблуждений[42] и в благородном порыве уверовать в истину?
— Но ведь прежде чем эта книга была напечатана, ее кто-то одобрил?
— Помилуйте, кто же смеет судить о книге прежде, чем это сделает публика? Кто может предугадать, какое влияние окажет та или иная мысль в тех или иных обстоятельствах? Каждый писатель самолично отвечает за то, что он пишет, и никогда не скрывает своего имени. Публика — вот кто выставляет его на позор, если он оскорбил те святые принципы, на коих зиждется поведение и честность людей; но в то же время именно она поддержит его, если он выскажет какую-нибудь новую истину, способную пресечь те или иные недостатки; словом, публика — единственный судья в такого рода случаях, и только к ее голосу и прислушиваются. Автор есть лицо общественное, и судьба его зависит от общественного мнения, а не от капризов какого-либо одного человека, который редко обладает достаточно верными и широкими взглядами, чтобы обнаружить, что именно в глазах всего народа будет достойно похвалы или осуждения. Не раз уже доказано было, что подлинной мерой гражданской свободы является свобода печати.[43] Нельзя нарушить одну, не уничтожив другую. Мысль должна быть высказана, наложить на нее узду — значит задушить ее в собственном святилище, а это преступление против человечества. Если моя мысль мне не принадлежит, что же тогда принадлежит мне?
— Но в мое время влиятельные особы ничего так не боялись, как пера хороших писателей. Их тщеславные, их преступные души содрогались от страха, когда справедливость осмеливалась выставлять напоказ поступки, которые они не стыдились совершать.[44] Вместо того чтобы поддерживать сию общественную цензуру, которая, будучи хорошо управляема, могла бы стать самой надежной уздой для порока и преступления, всякое сочинение пропускалось у нас как бы через сито,{49} у которого была столь мелкая сетка, что лучшие мысли в ней нередко застревали; вдохновенные порывы гения подвластны были жестоким ножницам, с помощью которых посредственность безжалостно укорачивала ему крылья.[45]
Все кругом засмеялись.
— Какое забавное зрелище, должно быть, представляли собой все эти люди, что с важным видом рассекали надвое мысли и взвешивали каждое слово, — сказал кто-то. — Еще удивительно, что вопреки всем этим препонам вы все же сумели создать что-то стоющее. Можно ли изящно танцевать, когда тебя обвивают тяжелые цепи?