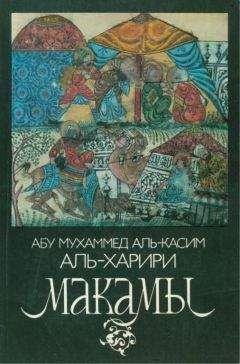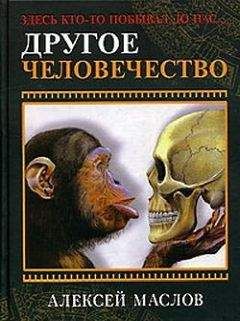Александр Житинский - Вчера, сегодня, позавчера...
Придя домой, я сел у телефона и стал его гипнотизировать. Я внушал ему, чтобы он зазвонил. Я считал про себя, причем условие было такое: телефон должен был зазвонить по счету десять. Мы с ним повторили этот сеанс раз двадцать, после чего я убедился, что наш телефон ни к черту не годится. Он молчал, как кирпич. А ведь внутри телефон был начинен тонкими нервами проводов, так что при желании он мог бы прислушаться к моим просьбам. Потом я снял обвинения с телефона, придумав ему в оправдание несколько версий: уже поздно, у тебя нет двухкопеечной монетки или ты уже звонила, пока я добирался до дому.
Ты позвонила утром, разбудив меня удивительно жизнерадостным голосом: «Алешка, привет! Как ты живешь?» Такие вопросы задаются обычно после столетнего отсутствия. «Ничего…» – пробормотал я, и дальше мы разыграли остроумный скетч старых школьных приятелей, которым вроде ничего друг от друга не нужно, кроме незначительной информации об одноклассниках и прочем. «Ну давай, что ли, встретимся?» – небрежно предложил я, злясь на себя за этот дурацкий тон. «Конечно, встретимся!» – великодушно разрешила ты.
И мы встретились…
После того случая, когда он ждал меня под дождем, я заметила, что немного успокаиваюсь. Всегда у меня получается шиворот-навыворот. Казалось бы, я должна была воспрянуть духом и влюбиться в него еще сильнее, хотя это было трудно. Я даже ругала себя и пыталась как-то на себя повлиять, чтобы любить его дальше, но все напрасно. Моя любовь покатилась под горку, а я следила за ней с огорчением. Неужели она была ненастоящая? Или, может быть, я просто не умею любить?
Я задавала себе много вопросов, но по-прежнему ни с кем не хотела ничего обсуждать.
И как нарочно, он стал за мной ходить по пятам.
Это было необъяснимо. Чем больше он обращал на меня внимания, тем спокойнее я наблюдала за его попытками. И что хуже всего, у меня появилась к нему жалость. Раньше, когда он меня не замечал, я иногда просто его ненавидела. А сейчас я ненавидела себя, потому что не могла быть с ним искренней, а играть в любовь мне не хотелось.
Я стала его избегать так же, как раньше старалась быть рядом.
Все это происходило как-то странно. Мы с ним ни разу друг с другом не говорили. Я никак не могла предположить, что на расстоянии возможны такие перемены в чувствах.
По-моему, из-за меня он не поступил в институт. Во всяком случае, до меня потом дошли такие слухи. Все были поражены, что это на него так подействовало.
В конце концов мы с ним все-таки объяснились. Это произошло в сентябре, когда я начала учиться в десятом классе, а его вскоре должны были призвать в армию.
Он подкараулил меня у дверей школы и появился так внезапно, что я испугалась.
– Здравствуйте, я ваша тетя! – выпалил он и покраснел.
Он тоже был очень стеснительный и от смущения не знал, как себя вести. Поэтому он сначала пытался острить.
– Здравствуй, – сказала я. – Ты откуда?
– От верблюда, – сказал он лихо.
Я ему обрадовалась. Я не видела его все лето и знала, что он скоро идет в армию. Но с первых же слов я поняла, что он еще мальчик, а я уже повзрослела. Моя любовь к нему позволила мне повзрослеть, а он, виновник этой любви, вдруг оказался ни при чем. Я понимала, что это несправедливо.
– Все учишься? – спросил он.
– Учусь, – указала я.
– А я вот в армию иду… – сказал он тоскливо и, чтобы исправиться, пропел: – А для тебя, родная, есть почта полевая…
Он замолчал и пошел рядом.
– Пойдем в ЦПКиО, – предложил он.
– С портфелем? – сказала я.
– Занеси его домой… Ну, пожалуйста, занеси его и пойдем, слышишь?.. – быстро и как-то жалобно проговорил он. У меня даже горло сжалось от того, что я ничем не могла ему помочь.
В Парке культуры мы посетили все аттракционы и пили газированную воду. Я старалась быть веселой и видела, что он все больше расковывается и смелеет. Когда мы возвращались домой через Каменный остров, он взял меня под руку. Было темно и прохладно. Он прошел со мной несколько шагов, а потом снял с себя пиджак и накинул мне на плечи.
И как только он это сделал, что-то вернулось ко мне. Это был какой-то непривычный, незнакомый мне и мужской жест. В его широком пиджаке я почувствовала себя снова девочкой, которая краснела, когда он проходил мимо, а ночью писала в дневник мысли великих писателей.
Я не помню, как получилось, что мы стали целоваться. Помню только, что пиджак упал с моих плеч, но мы этого не заметили. Это была последняя вспышка с моей стороны. Вот так свеча догорает. Тлеет, ослабевает, а потом напоследок вспыхнет ярко и погаснет.
У подъезда я была уже спокойна и не позволила ему себя целовать.
– Ты меня будешь ждать? – спросил он.
И я не смогла ему соврать, но и сказать правду тоже не могла.
…Знаешь ли ты, как грустно живется метеоритам?.. Я не говорю о крупных метеоритах, возле которых вращаются мелкие осколки, скрашивая их одинокое существование. Я имею в виду маленькие метеориты, которых достаточно много. Эти метеориты вроде нас. Они вечно летят в диком космосе, не имея решительно никакой надежды на встречу с кем-либо. Несмотря на то что их огромное количество, они почему-то редко встречаются друг с другом или с крупными небесными телами. Я уверен, что они мечтают о такой встрече, проплывая бесконечное пустое пространство, похожее на паутину в темном углу комнаты. Метеориты самоотверженны и недальновидны. Такая встреча губительна для них, но зато она позволяет ярко вспыхнуть и стать на мгновение падающей звездой.
Увидев падающую звезду, нужно загадать желание.
Наши желания никогда не сбывались. Всегда существовала сила обстоятельств, а скорее даже лабиринт обстоятельств, в котором мы вынуждены были двигаться по закоулкам, вместо того чтобы пройти напрямик сквозь стены. Отыскивая друг друга, мы ходили по лабиринту, изредка оказываясь совсем рядом – через двойное стекло вагона, увозящего тебя или меня на исходную позицию, в дальний угол. Сегодня, простившись с тобой, я подумал, что мы сами искусно сплели этот лабиринт и поддерживаем его в целости и сохранности. Более того, за прошедшие шестнадцать лет мы детально изучили его схему и могли бы прийти друг к другу, не разрушая стен, с завязанными глазами. Но мы этого не делаем. Мы убеждаем себя, что лабиринт непроходим.
Короче говоря, мы стремимся друг к другу с той же настойчивостью, с какой делаем встречи невозможными. Причина?.. Мы боимся убить любовь.
Любовь плохо переносит длительное общение. Во всяком случае, она принимает иные формы. Любовь превращается в привязанность, уходя из одной области сердца в другую.
Представь себе сердце разделенным на две половины, в одной из которых помещается любовь, а в другой – привязанность. Любовь, возникая в одной половине, при благоприятных условиях стремится перейти в привязанность. Если там уже есть привязанность к другому, любовь либо вытесняет ее, либо уходит ни с чем. В любом случае она погибает. Вся штука в том, чтобы не создавать для любви благоприятных условий. Тогда она продлится долго, может быть всю жизнь. Мы всегда это чувствовали – особенно ты – и держали нашу любовь в черном теле, раз в восемь лет подбрасывая ей волшебные подарки в виде встреч, после которых были только письма.
Мы не давали ей нежиться и лениться, мы были строги…
Перед свадьбой, когда все уже было решено и даже родители смирились с этой мыслью, мы с Аликом сидели в читальном зале. Мы делали вид, что готовимся к экзаменам, но на самом деле мы разговаривали шепотом и прислушивались друг к другу.
Мы быстро научились прислушиваться друг к другу. Я даже думаю, что мы слишком рано стали друзьями. Мы не успели или не захотели пройти через все странности любви. Нас не бросало ни в жар, ни в холод, не было неясностей, измен, тоски и отчаянья. Нам было хорошо друг с другом. Может быть, поэтому потом были и тоска, и отчаянье, и холод, и жар. Но даже сейчас, после того как все произошло и неизвестно еще, что произойдет, я думаю, что наша любовь была благоприятной для брака.
Именно поэтому мы с ним вместе уже двенадцать лет. Конечно, я мечтала о браке без таких потрясений, но другого мужа я себе не представляю. Мне кажется, и он тоже не видит для себя другой жены.
Я выучилась прощать. Нет, наверное, я даже заслужила это право. Когда все безоблачно, прощать легко. А всякие пустяки, которые женщины так неохотно прощают, даже не заслуживают прощения, потому что это высокое чувство. Алик как-то сказал, что прощение – это великодушие побежденного. Надо почувствовать себя побежденной, чтобы понять, что такое прощение. Когда Алик увлекался другими женщинами, я ни разу не ощущала себя побежденной. Иногда я была равнодушна, иной раз злилась, но почувствовала себя поверженной, разбитой и уничтоженной только тогда, восемь лет назад.
Алик никогда не был на моем месте. Даже тогда, в читальном зале, он ни на минуточку не усомнился в своем превосходстве. Он даже не посчитал, что я сказала ему что-то важное. Но для меня это было важным и осталось важным, хотя прошло много лет.