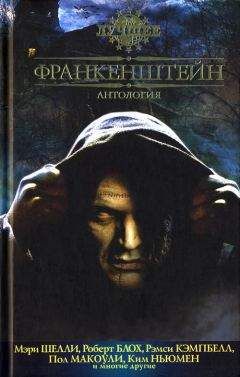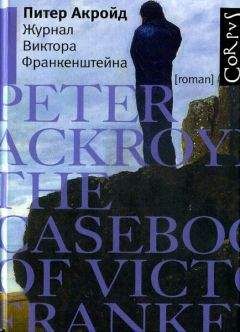Стивен Джонс - Франкенштейн: Антология
Вернувшись из Милана, отец увидел в гостиной нашей виллы игравшего со мной ребенка, более прелестного, чем херувим, — существо, словно излучавшее свет, в движениях легкое, как горная серна. Ему объяснили, в чем дело. Получив его разрешение, мать уговорила крестьян отдать их питомицу ей. Они любили прелестную сиротку. Ее присутствие казалось им небесным благословением, но жестоко было бы оставить девочку в нужде, когда судьба посылала ей таких богатых покровителей. Они посовещались с деревенским священником, и вскоре Элизабет Лавенца стала членом нашей семьи, моей сестрой и даже более — прекрасной и обожаемой подругой всех моих занятий и игр. Элизабет была общей любимицей. Я гордился горячей и почти благоговейной привязанностью, которую она внушала всем, и сам разделял ее. В день, когда она должна была переселиться в наш дом, мать шутливо сказала: «У меня есть для моего Виктора замечательный подарок, завтра он его получит». Когда наутро она представила мне Элизабет в качестве обещанного подарка, я с детской серьезностью истолковал эти слова в буквальном смысле и стал считать Элизабет своей — порученной мне, чтобы я ее защищал, любил и лелеял. Все расточаемые ей похвалы я принимал как похвалы чему-то мне принадлежащему. Мы дружески звали друг друга кузеном и кузиной. Но никакое слово не могло бы выразить мое отношение к ней — она была мне ближе сестры и должна была стать моей навеки.
Глава вторая
Мы воспитывались вместе, разница в нашем возрасте не составляла и года; нечего и говорить, что ссоры и раздоры были нам чужды. В наших отношениях царила гармония, и самые различия в наших характерах только сближали нас. Элизабет была спокойнее и сдержаннее меня, зато я, при всей своей необузданности, обладал большим упорством в занятиях и неутолимой жаждой знаний. Ее пленяли воздушные замыслы поэтов; в величавых и роскошных пейзажах, окружавших наш швейцарский дом — в волшебных очертаниях гор, в сменах времен года, в бурях и затишье, в безмолвии зимы и в неугомонной жизни альпийского лета, — она находила неисчерпаемый источник восхищения и радости. В то время как моя подруга сосредоточенно и удовлетворенно созерцала внешнюю красоту мира, я любил исследовать причины вещей. Мир представлялся мне тайной, которую я стремился постичь. В самом раннем детстве во мне уже проявлялись любопытство, упорное стремление постичь тайные законы природы и восторженная радость познания.
С рождением второго сына — спустя семь лет после меня — родители отказались от странствий и поселились на родине. У нас был дом в Женеве и дача в Бельрив, на восточном берегу озера, примерно в одном лье от города. Мы обычно жили на даче; родители вели жизнь довольно уединенную. Мне также свойственно избегать толпы, но зато страстно привязываться к немногим. Поэтому я оставался равнодушен к школьным товарищам, однако с одним из них меня связывала самая тесная дружба. Анри Клерваль, мальчик, наделенный выдающимися талантами и живым воображением, был сыном женевского негоцианта. Трудности, приключения и даже опасности влекли Анри сами по себе. Он был весьма начитан в рыцарских романах, сочинял героические поэмы и не раз начинал писать повести, полные фантастических и воинственных приключений. Он заставлял нас разыгрывать пьесы и устраивал переодевания, причем чаще всего мы изображали героев Ронсеваля, рыцарей Артурова Круглого стола и воинов, проливавших кровь за освобождение Гроба Господня из рук неверных.
Ни у кого на свете не было столь счастливого детства, как у меня. Родители мои были воплощением снисходительности и доброты. Мы видели в них не тиранов, капризно управлявших нашей судьбой, а дарителей бесчисленных радостей. Посещая другие семьи, я ясно видел, какое редкое счастье выпало мне на долю, и признательность лишь усиливала мою сыновнюю любовь.
Нрав у меня был необузданный, и страсти порой овладевали мной всецело, но так уж я был устроен, что этот пыл обращался не на детские шалости, а к познанию, причем не всего без разбора. Признаюсь, меня не привлекали ни строй различных языков, ни проблемы государственного и политического устройства. Я стремился познать тайны земли и неба, будь то внешняя оболочка вещей или внутренняя сущность природы, и тайны человеческой души; мой интерес был сосредоточен на метафизических или — в высшем смысле этого слова — физических тайнах мира.
Клерваль, в отличие от меня, интересовался нравственными проблемами. Кипучая жизнь общества, людские поступки, доблестные деяния героев — вот что его занимало; его мечтой и надеждой было стать одним из тех отважных благодетелей человеческого рода, чьи имена сохраняются в анналах истории. Святая душа Элизабет озаряла наш мирный дом подобно алтарной лампаде. Вся любовь ее была обращена на нас; ее улыбка, нежный голос и небесный взор постоянно радовали нас и живили. В ней жил умиротворяющий дух любви. Мои занятия могли бы сделать меня угрюмым, моя природная горячность — грубым, если бы присутствие Элизабет не смягчало меня, передавая мне частицу ее кротости. А Клерваль? Казалось, ничто дурное не могло найти места в благородной душе Клерваля, но даже он едва ли был бы так человечен и великодушен, так полон доброты и заботливости при всем своем стремлении к опасным приключениям, если бы она не открыла ему красоту деятельного милосердия и не поставила добро высшей целью его честолюбия.
Я с наслаждением задерживаюсь на воспоминаниях детства, когда несчастья еще не поразили мой дух и светлое стремление служить людям не сменилось мрачными думами, сосредоточенными только на себе. Однако, рисуя картины моего детства, я повествую и о событиях, незаметно приведших к последующим бедствиям, ибо, желая вспомнить зарождение страсти, подчинившей себе впоследствии мою жизнь, я вижу, что она, подобно горной реке, родилась из едва заметных источников, чтобы затем, набирая силу, стать бурным потоком, унесшим все мои радости и надежды.
Естествознание — вот демон, правивший моей судьбой. Поэтому в своем повествовании я хочу указать на обстоятельства, которые заставили меня предпочесть его всем другим наукам. Однажды, когда мне было тринадцать лет, мы всей семьей отправились на купанье куда-то возле Тонона. Непогода на целый день заперла нас в гостинице. Там я случайно обнаружил томик сочинений Корнелия Агриппы. Я рассеянно открыл его, но теория, которую он пытался доказать, и удивительные факты, о которых он повествовал, вскоре привели меня в восхищение. Меня словно озарил новый свет; полный радости, я рассказал о своем открытии отцу. Тот небрежно взглянул на заглавный лист моей книги и сказал: «А, Корнелий Агриппа! Милый Виктор, не трать времени на подобную чепуху».
Если бы вместо этого замечания отец взял на себя труд объяснить мне, что учение Агриппы полностью опровергнуто, что его сменила новая научная система, более основательная, чем прежняя, — ибо могущество прежней было призрачным, тогда как новая оказалась реалистична и плодотворна, — я, несомненно, отшвырнул бы Агриппу и насытил свое пылкое воображение, с новым усердием обратившись к школьным занятиям. Возможно даже, что мои мысли никогда не получили бы рокового толчка, приведшего меня к гибели. Но беглый взгляд, брошенный отцом на книгу, отнюдь не убедил меня, что он знаком с ее содержанием; поэтому я с жадностью продолжил чтение. Вернувшись домой, я первым делом раздобыл все сочинения моего автора, а затем Парацельса и Альберта Великого. Я с наслаждением изучал их безумные вымыслы; они казались мне сокровищами, мало кому ведомыми, кроме меня. Я уже говорил, что всегда был одержим страстным стремлением познать тайны природы. Несмотря на неусыпный труд и удивительные открытия современных ученых, их книги всегда оставляли меня неудовлетворенным. Говорят, сэр Исаак Ньютон признался, что чувствует себя ребенком, собирающим ракушки на берегу великого и неведомого океана истины. Те его последователи во всех областях естествознания, с которыми я был знаком, даже мне, мальчишке, казались новичками, занятыми тем же делом.
Невежественный поселянин созерцал окружающие его стихии и на опыте узнавал их проявления. Но ведь и самый ученый из философов знал не многим больше. Он лишь слегка приоткрыл завесу над ликом Природы, но ее бессмертные черты оставались дивом и тайной. Он мог анатомировать трупы и давать вещам названия; но он ничего не знал даже о вторичных и ближайших причинах явлений, не говоря уже о первичной. Я увидел укрепления, преграждавшие человеку вход в цитадель природы, и в своем невежестве и нетерпении возроптал против них.
А тут были книги, проникавшие глубже, и люди, знавшие больше. Я во всем поверил им на слово и сделался их учеником. Вам может показаться странным, как могло такое случиться в восемнадцатом веке, но дело в том, что, в силу рутины, царившей в женевских школах, я по части своих любимых предметов был почти что самоучкой. Отец не имел склонности к естественным наукам, и я был предоставлен самому себе; страсть исследователя сочеталась у меня с неведением ребенка. Под руководством новых наставников я с величайшим усердием принялся за поиски философского камня и жизненного эликсира. Последний вскоре целиком завладел моим вниманием; богатство казалось мне вещью второстепенной; но какая слава ждала бы меня, если б я нашел способ избавить человека от болезней и сделать его неуязвимым для всего, кроме насильственной смерти!