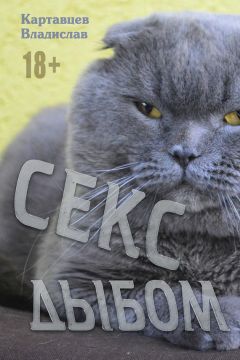Луи-Себастьен Мерсье - Год две тысячи четыреста сороковой
104
Этот пресловутый закон,{331} который должен был споспешествовать народному благоденствию, привел только к голоду: он наложил руку на снопы обильнейших урожаев, он заставил бедняков умирать голодной смертью у дверей ломящихся от зерна амбаров. Неизвестное дотоле нравственное бедствие поразило нацию: собственная почва ее перестала ей принадлежать; развращенность нравов явила себя в самом ужасающем своем виде. Человек выказал себя жесточайшим врагом человека. Страшный пример — и столь же гибельный, как и самый голод. Сам закон освятил собой сию исключительную бесчеловечность. Я верю, что сочинители, бывшие виновниками этого закона, были людьми глубоко человечными; быть может, настанет день, и он окажется полезным; но эти сочинители должны вечно казниться, что, сами того не желая, стали причиной смерти многих тысяч людей и страданий тех, кого смерть пощадила. Они слишком поторопились; все сумели они охватить взором, кроме человеческой жадности, разгоревшейся при виде этой опасной приманки. «Они, — выразительно говорит г-н Ленге, — вложили в руки торговли насос, с помощью коего выкачиваются соки из народа».{332} Общественный ропот должен взять верх над «Эфемеридами».{333} Слышатся стенания и крики; следовательно, для нынешнего времени такой порядок дурен. Какое нам дело, что причина зла в местных условиях: надобно было предугадать их, предвидеть, предупредить, уяснить себе, что тех, кто нуждается в самом необходимом, не следует отдавать во власть случайного хода событий; что в обширном королевство столь необычное новшество произведет потрясение, которое несомненно окажется пагубным для беднейшей части его населения. А экономисты между тем были уверены в обратном. Им следует признаться в том, что их ввело в заблуждение желание всеобщего блага; что они недостаточно обдумали свое предприятие, что они рассматривали его отдельно от всего прочего, в то время как в вопросах политических все соприкасается между собой. Недостаточно уметь считать, надобно обладать государственным умом; надобно уметь принимать в расчет то, что может быть изменено, искажено, изуродовано человеческими страстями; надобно уметь предвидеть, какое воздействие окажет поведение богатых на бедную часть нации. Экономисты же рассматривали вопрос лишь под тремя углами зрения, позабыв о наиболее важном — об интересах трудящихся людей, составляющих три четверти нации. Их поденная плата отнюдь не повысилась, а жадный откупщик стал еще более их притеснять; они вынуждены работать вдвое больше, чтобы заглушить крики голодных детей своих. Дороговизна хлеба стала определять собой стоимость других продуктов, и каждый человек оказался наполовину менее богатым. Таким образом, закон этот явился не более как обманчивой личиной, позволившей откупщикам свободно осуществлять самое жестокое свое господство; его обратили против родины, чье благоденствие он призван был составить. Плачьте же, сочинители! И хотя вы следовали великодушным порывам своих сердец, преисполненных любовью к родине, уразумейте, как пагубно сказалось то, что вы не знали свой век, не знали людей и предложили им совершить благодеяние, которое они превратили во зло. Именно вы обязаны теперь облегчить муки больного, убиваемого сим лечением, спасти его, если это в ваших силах: hic labor, hoc opus.{334}
105
Банья{335} не едят ничего такого, что было прежде живым, они боятся убить мельчайшее насекомое, они бросают в реку рис и бобы, чтобы накормить рыб, и сыплют на землю зерно, чтобы напитать птиц. Встретив человека, идущего на охоту или рыбную ловлю, они настоятельно просят его отказаться от этого намерения; если он остается глух к их мольбам, они предлагают ему деньги за его ружье или сеть, если же он не соглашается на это, они мутят воду, дабы распугать рыбу, и начинают изо всех сил кричать, дабы обратить в бегство зверей и птиц («История путешествий»).
106
Какой человек, взглянув на картинку, изображающую Гаргантюа, чей отверстый рот, огромный, словно печь, заглатывает за одну трапезу тысячу двести фунтов хлеба, двадцать быков, сто баранов, шестьсот цыплят, полторы тысячи зайцев, две тысячи перепелов, сорок пять бочек вина, шесть тысяч персиков и т. д., и т. д., и т. д., не воскликнет: сей огромный рот — точь-в-точь рот какого-нибудь короля.
107
Я видел однажды, как король, приехавший в принцу, шел через большой двор, который был полон бедняков, жалобно взывавших к нему: «Хлеба, дайте нам хлеба!». Ничего не отвечая им, король и принц прошли через двор и сели за трапезу, на которую было потрачено около миллиона франков.
108
Охоту следует считать развлечением недостойным в низменным. Убивать животных нам приходится по необходимости, и нет занятия более печального. Я с каждым разом все внимательнее читаю то, что написали об охоте Монтень, Руссо{336} и другие философы. Мне очень по душе добрые индусы, с почтением относящиеся даже к крови животных. Тот род удовольствия, которое избирает себе человек, всегда отражает его природу. А разве не внушает ужас удовольствие, которое получает тот, кто заставляет падать окровавленной взлетевшую куропатку, убивать у своих ног зайцев, бежать вслед за двадцатью лающими собаками, видеть, как они разрывают несчастного зверя! Он слаб, он ни в чем не повинен, он весь дрожит от страха. Вольный житель лесов, он погибает от укусов своих врагов, и вот появляется человек и пронзает ему сердце стрелой; сей варвар улыбается от удовольствия, глядя на залитую кровью красивую шкурку, на слезы, струящиеся из его глаз. Подобная забава свойственна душам, лишенным природной жалости, и охота есть не что иное, как равнодушие, всегда готовое обернуться жестокостью.
109
Во Франции — монархическое правительство, в театре же порядки республиканские. От этого отнюдь не выигрывает драматическое искусство: осмелюсь даже утверждать, что всякая пиеса, полезная нации, непременно запрещается правительством. Господа сочинители, пишите свои трагедии на античные сюжеты; от вас требуют побасенок, а не картин, способных растрогать народ и просветить его; усыпляйте нас старинными сказками для детей и не касайтесь современных событий, а главное — ныне живущих людей.
110
На ярмарочных и уличных представлениях народу показывают нелепые, грубые пиесы, полные всяких непристойностей, а между тем совсем нетрудно было бы играть для них небольшие занимательные, поучительные пиесы, доступные, однако, их пониманию. Но тем, кто управляет народом, безразлично, что тело его отравляют в трактирах негодным вином из оловянной посуды, а душу развращают на ярмарках гнусными фарсами.{337} Ежели он станет точно следовать тем урокам воровства, которые преподносятся ему у Николе{338} в качестве остроумных проказ, тут, пожалуй, недалеко и до виселицы. Существует даже полицейский указ, недвусмысленно приговаривающий народ к шутовским зрелищам, — согласно этому указу уличным актерам воспрещается произносить с подмостков какие-либо здравые суждения, и все это — дабы не нарушать столь почитаемых привилегий королевских актеров. И подобное распоряжение обнародовано в 1767 году, в наш просвещенный век! Сколько презрения к бедному люду!{339} Как пренебрегают его образованием! Как боятся, что в душу его проникнет несколько лучей познания! Зато какой строгой критике подвергается каждое полустишие,{340} которое должно произноситься на французской сцене.
111
Какую силу, какую выразительность, какое влияние обрел бы наш театр, когда бы правительство, вместо того чтобы видеть в нем прибежище праздных людей, рассматривало бы его как школу, в коей обучаются добродетелям и гражданским доблестям.{341} Но что делали наши лучшие таланты? Они черпали свои сюжеты у греков, римлян, персов и т. п. Они представляли нам чужеземные, вернее сказать — вымышленные нравы: сладкогласные поэты, они были лживыми художниками и рисовали картины воображаемые; их герои, их напыщенные стихи, единообразие их красок, их пять актов — все это загубило драматическое искусство, чье единственное предназначение — точно и просто живописать современные нам, нынешние нравы.{342}
112
Опера есть зрелище вредоносное, и однако нет представлений, более излюбленных правительством. Вообще это единственный вид представлений, который его интересует.
113
О чем вы думаете, трагические поэты? Перед вами такой сюжет, а вы мне болтаете о персах и греках. Вы предлагаете мне зарифмованные побасенки. Изобразите-ка мне лучше Кромвеля!