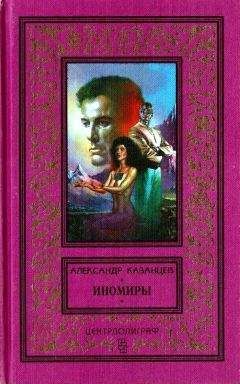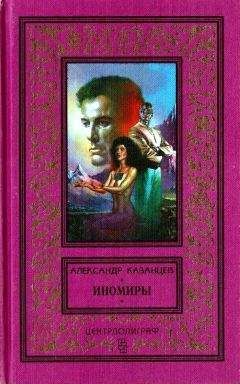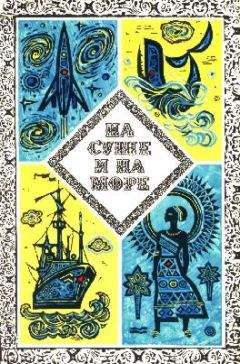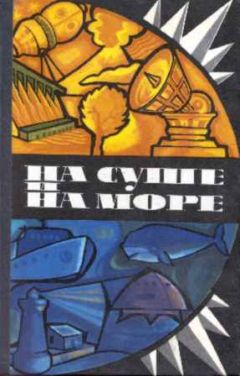Александр Казанцев - Иномиры
Оля тогда подошла и обняла Кочеткова, назвав его «Юра-молодец!».
Работа в ангаре продолжалась, но чем больше близилась к концу, тем труднее становилось завершить начатое.
Производство лихорадило от новых, изрезавших страну «по живому» границ.
Приходилось самим искать выход из самых затруднительных положений.
Старый рабочий Иван Степанович, с присущей русским умельцам смекалкой, стал разбирать объекты военной техники, не востребованные заказчиком из-за недостатка средств. И даже собственную домашнюю аппаратуру.
Недостаток средств чувствовался и в ангаре. «Вверху» не давали обещанных Кочеткову кредитов, не слишком понимая назначение нового «секретного объекта».
Дядя Джо негодовал. Не только Всеобщий закон Выгоды, но и вообще все законы страны и распоряжения вышестоящих органов не выполнялись.
— Один джентльмен, которого уже много лет катали на инвалидной коляске, уверял, что нет ничего неудобнее паралича, — заявлял он отнюдь не обычным жизнерадостным тоном, явно имея в виду нечто, даже отдаленно не напоминающее больного джентльмена.
А на следующий день Кочетков прочел всем свое новое стихотворение, под которым, вероятно, подписался бы и дядя Джо:
ЧУМАВдруг взбунтовалась левая рука.
Сказала голове: «Адье, пока!
Отныне слушать я тебя не буду!»
И пациенту сразу стало худо.
А тут еще нога твердит врачу:
«Куда хочу, туда и ворочу!»
И будто пальцы у нее решили,
Чтоб обувью их больше не давили.
Очки поправил доктор на носу,
Вздохнул и записал «инсульт».
Пришла беда, несчастье человека.
Был здоровяк всегда, теперь — калека!
Когда ж в параличе лежит страна,
«Инсульт везде», то это уж Чума!
Слушатели переглянулись. Англичанин заметил:
— Мне не хотелось бы никого задеть, но Бог, желая покарать кого-либо, лишает его рассудка.
Американец сказал:
— Один джентльмен считал, что он всегда прав, даже когда на автомобиле врезался в витрину модного магазина.
Японец промолчал. Оля покраснела, виновато посмотрев на Альсино.
Вопреки всем трудностям, «проникающий аппарат» все-таки через некоторое время удалось закончить.
Перед стартом, когда экипаж собрался у входного люка «тарелки», Кочетков, словно обращаясь ко всем остающимся, произнес:
ПОСЕВ И ЖАТВАКогда свобода личности
Зависит от наличности,
Успех «народовластия» —
От общего несчастия,
Когда в развал, в растащенность
Рак, лебедь, щука тащат нас,
И могут принцип довести
До полной беспринципности,
Когда вверху не парубки
Друг друга ловят за руки,
А наши первые вожди,
Увы, хорошего не жди!
А если так пройдет посев,
То жатва — всенародный гнев!
Вряд ли кто услышал его, кроме друзей, ведь он своих произведений никогда не публиковал… Его «озарение» осталось закрытым, как и он сам…
А теперь уже нет в живых ни Кочеткова, ни трех его ученых соратников… даже Оли.
Как быстро ни промелькнули эти воспоминания в сознании Альсино, старец уже сидел на скамье в беседке, окутав седой бородой рукоятку палки со сложенными на ней руками, и выжидательно смотрел на него.
— Я вспоминал о своем пребывании в «недоразвитом» мире, который есть не что иное, как наше далекое прошлое. Я там общался с нашими предками.
Старец поднял на него удивленные глаза:
— Что ты хочешь сказать столь неожиданным и, надо думать, малообоснованным утверждением?
— Пусть это только гипотеза, мудрейший. Она появилась в результате общения с искусственным мозгом биоробота, но я убежден, что мы с тобой побывали не в мире, сходном по условиям развития с нашей древностью, а в самом нашем давнем прошлом.
— Обдумаем вместе эту обещающую теорию.
Альсино мысленно передал старцу все аргументы биоробота, который, кстати сказать, стоял у входа в беседку, крайне заинтересованный тем, что там происходит.
— Итак, нам надо считать, что мы побывали у собственных предков? — заключил старец.
— Именно такой вывод необходим. Он побуждает меня дать согласие на совместную работу, задуманную тобой, мудрейший.
— Что ж, — раздумывая сказал Наза Вец. — Это не меняет, а скорее углубляет нашу задачу создания древнейшей истории неомира. И свидетельства очевидцев давнего прошлого могут стать крайне полезными.
— Я рад, что ты не отверг с порога такую теорию, а готов воспользоваться ею в научных целях.
— Тогда обменяемся общими впечатлениями об увиденном в нашем, как ты считаешь, действительно реальном прошлом. Начнем с меня, поскольку я был там за тридцать лет до твоего рождения.
— Я постараюсь дополнить твои впечатления своими.
— Я и сейчас содрогаюсь при мысли о том, как насильственно внедрялись идеи Справедливости в стране, где решили любой ценой перейти на коммунистические отношения. На деле они оказались совсем иными: принуждением, несправедливостью, угнетением и расправой — словом, прикрытой тиранией. Сами по себе коммунистические идеи, конечно, не могут быть этим опорочены. Однако немало пострадавших готовы были неразумно отвергнуть само стремление к светлому.
— Я сталкивался с этим в пору новых потрясений. Но ты побывал в адских бараках «колючепроволочного коммунизма».
— Да, я видел там людей, утративших веру в лучшее будущее. Однако встречал и энтузиастов, ради высокой цели закрывших глаза на лишение не только прав, но порой и жизни близких людей. Они способны были и на подвиги слепого фанатизма с именем своего угнетателя на устах. Для их же вождей, возведших беспринципность в «принцип революционности», главным было разрушение прежнего общества и создание на его руинах чего-то нового, что якобы принесет счастье народу. Такая болтовня о грядущем благе дурманила людям головы и действовала как массовый наркотик. А на деле — принудительный труд, разделение всех на враждующие, неравноправные группы пролетарского и непролетарского происхождения, бездумный отрыв земледельцев от земли и передача ее нерадивым бездельникам, неспособным взять блага Природы. Я видел все это сам. А ты, Альсино?
— Понадобились десятилетия, — ответил Альсино, притянув к себе ветку и вдыхая ее аромат, — чтобы выйти из-за колючей проволоки, поверить в обретенную свободу и народовластие. Слишком велика была ненависть к диктатуре с былым обожествлением вождя. — И Альсино задумался.
Наза Вец проницательно смотрел на него и сказал:
— У тебя возник, как отражение увиденных событий, образ «Маятника Жизни»?
— Ты прочел мои мысли, мудрейший. Маятник всегда стремится в крайние положения. А крайность — это разрушение прежде созданного. Замена старых пороков новыми. Свобода превращается во вседозволенность, даже в разгул преступности. «Хочу беру, хочу убиваю». Право на самоопределение подменяется уродливым национализмом. Самобытный уклад жизни — в провозглашение превосходства коренного народа над другим. Даже способ поклонения Божеству — причина кровавой вражды и ненависти. Потери в междоусобных войнах могут превзойти даже жертвы преступного режима «колючепроволочного коммунизма».
— Да, — вздохнул старец, отодвигая палку, — мир переживал тогда тяжкие испытания, а нам, историкам, так мало об этом известно…
Альсино встал, принялся ходить по беседке и столкнулся с роботом.
— Почему ты не воспользуешься искусственными нейронами мозга? — обратился к нему Робик.
— Что можешь ты добавить к тому, что я скажу мудрейшему? Конечно, мои гипотезы нуждаются в проверке. Это понимает даже биоробот. Пока это лишь предположения, — говорил Альсино старцу. — Анализ истории двадцатого века показывает некоторую закономерность.
— Закономерность может быть выражена мной математически, — настаивал биоробот.
— В самом деле? — насторожился Наза Вец, выпрямляясь на скамейке и опираясь на палку. Он покосился на робота и добавил: — Когда ты уймешь этого маловоспитанного нейронного философа?
— Моя воспитательница еще не вернулась, — тотчас отозвался Робик. — Мы ждем ее.
Наза Вец поморщился:
— Так каковы же твои наблюдения?
— Обнаруживается совпадение событий большого значения с одиннадцатилетним циклом солнечной активности. Одиннадцать — модуль Вселенной.
— Третье простое число после Пифагоровой тройки, лежащей в основе всех простых чисел, — вставил Робик.
— Мы обратимся к тебе, биоробот, как только понадобятся математические уточнения, — раздраженно сказал Наза Вец. — Дальше?
Сделав знак Робику не вмешиваться, Альсино продолжал:
— 1904 год. Неудачная война России с Японией. Четыреста тысяч убитых. Напряжение в обществе. Разряд молнии в виде революции 1905 года. Раскаты грома по всему миру. Через одиннадцать лет — 1915 год. Тяготы начавшейся мировой войны. За год три миллиона убитых. Опять Пифагорово число Три!