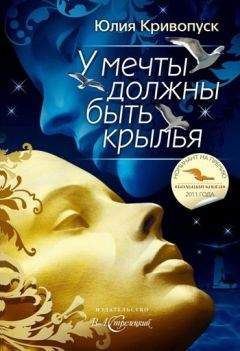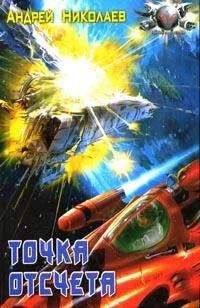Анатолий Ириновский - Жребий
— Ну-ну. Ты не в школе, не забывай.
— Я не забываю. Но на портрете изображены не мои глаза. И вообще, что это за метод доказательства, когда живого человека членят на куски и сравнивают их с частями какой-то мазни? Бес-смысленно требовать от меня подтверждения схожести. Самая на-стоящая халтура. Это кто-то из герасимовских подражателей постарался.
— Меня не интересует художник, — сказал Зуев. — Меня интересует модель.
— Почему же? А исполнитель? Ведь кто-то же написал этот бездарный портрет?
— Что ты хочешь этим сказать?
— Что соучастников было трое: заказчик, исполнитель и модель.
— А если заказчик и модель это одно и то же лицо?
— Возможно. Тогда их двое — все равно групповая. Но в момент появления портрета меня в городе не было. Учтите. И я, таким образом, исключен из этой пары. По-том, это ведь портрет. Всего лишь погрудный портрет. А у портрета есть свои жанровые законы, он не может быть приравнен к фотографии.
— Да-а, — сказал Зуев, открывая дверь машины и закуривая, — фигня получает-ся. Вот, блядь, закрутили — не раскрутишь. Затянули, как храповик. Модели, исполните-ли, заказчики… Ты тут один во всем виноват — и точка! Твоя это морда! Что, не видно?!
— Не знаю. Морда, может, частично и моя, но идентичность ее со мной еще нуж-но доказать.
— Докажем — запросто. Сделаем ряд фотографий с тебя, пригласим экспертов, сопоставим…
— Ну и что?
— Как что? Это же безобразие — занимать место, положенное людям государст-венного значения.
— Это еще неизвестно, кому там положено висеть. Перед лицом закона мы все равны. Но где закон, которым руководствуются, когда выставляют на общее обозрение чей-то портрет?
— Нет, вы посмотрите на него, а! Ну кто ты такой, кто? Учите-лишка. Ноль без палочки!
— Мне уже один говорил эти слова.
— Кто говорил?
— Один знакомый.
— Правильно говорил. Умный человек.
— Да, не глупый.
— Ты посмотри, сколько народа собралось, чтобы тебя лицезреть! — злился Зуев. — Такого еще никогда не было! Это же черт знает что!
— Конечно! Массы жаждут вождя. Они горят желанием вверить ему свои души. А тут — новый соискатель. Свежая морда — людям интересно. Тем более, что они не знают точно, кто это перед ними. Ребус. Раньше были лица примелькавшиеся, всем из-вестные и, может быть, даже поднадоевшие. Вполне понятная ситуация.
Рамон тихонько толканул коленом Нетудыхина.
— Ты не зарывайся, Тимофей Сергеевич, — сказал Зуев. — Говорить говори, да знай меру. Поднадоевшие! Может, твоя морда тоже кому-то поднадоела. А терпят люди, молчат.
— Это вы себя имеете в виду? — спросил Нетудыхин.
— Может быть, и себя. Что ж я, не человек, что ли?
— Ну, я тут ни при чем. Вы мне свое общество навязали, а не я вам. Лично я в этом портрете не вижу никакого криминала. Висит себе портрет на стене — ну и пусть висит. Мало ли он на кого похож. Между прочим, он с тем же успехом мог быть похож и на вас, Иван Иванович.
Рамон опять толканул Нетудыхина.
— Да ты что?! У меня самая ординарная морда. И чем она незаметней, тем лучше для меня.
— А это уже дело пропаганды. Смысл можно нарастить даже на деревянной бол-ванке, если каждый день повторять людям, что болванка эта выдающаяся. Вы даже не заметите, как сами начнете обнаруживать в ней что-то особенное. Нет такой глупости, в которую человек не мог бы уверовать как во что-то святое. А если туда еще подмешать немного мистики или какой-нибудь борьбы за справедливость, равенство, — верят фана-тично, насмерть…
— Тимофей Сергеевич! — угрожающе остерег Зуев. — Опять зарываешься!
— Нет, я не о Ленине, — сказал Нетудыхин. — Я о психологии стадности. Покло-нялись же наши предки каменным идолам, с течением времени — иконам. Сегодня по-клоняются портретам. Какая разница! Оклад, правда, убрали…
— Садить тебя надо, Тимофей Сергеевич, садить. Там обо всем додумаешь до конца, — как-то тяжело и с досадой сказал Зуев. — Такими людьми, как ты, управлять нельзя.
— Очень даже можно, если управлять честно и справедливо.
— Поехали, Витя. Этого балабона не переслушаешь.
— Одну минутку! — сказал Нетудыхин. — Я бы хотел все же взглянуть на порт-рет вблизи, если, конечно, можно.
— Ну, подрули, Витя. Только на несколько секунд. Пусть убедится, что это таки он и никто другой.
Машина съехала на дорогу и, в нарушение всех правил, пересекла ее по косой, ос-тановившись у площадки.
Нетудыхин выглянул через открытое окно. Два мужика, оказавшись недалеко от машины, громко препирались между собой.
— А я тебе говорю, что это Акуджава! — Настаивал один. — Который стишки свои поет под гитару…
— Причем здесь Акуджава? Акуджава — грузин! — горячился другой. — А ты посмотри на эту жидовскую рожу! А шнобель какой! Люди говорят, будто это какой-то Даниэль, писатель московский. Понял?
— А почему же у него фамилие французское?
— Ну и шо? Мало ли они каких фамилий поднахватались! Для них сменить фами-лие — шо два пальца обоссать…
"Не умнеет Россия, нет", — подумал Нетудыхин, невольно слыша этот разговор и обозревая свое изображение.
Вдруг, откуда не возьмись, вынырнули его пацаны.
— О, Тимофей Сергеевич!
— Здрасьте, Тимофей Сергеевич!
— Пацаны, сюда! Тимоха живой объявился!
— Ура Тимофею Сергеевичу!
И кучей гаркнули:
— Ура-а-а!
Толпа на площадке заволновалась. Еще минута — и она бы взяла машину в коль-цо.
— Поехали! — заорал во всю глотку Зуев.
Машина, взревев, рванулась с места.
В управлении его опять водворили в тот кабинет, где он уже пребывал. Зуев ушел. То ли обедать ушел, — было около пяти дня — то ли кому-то докладывать насчет спор-ности портрета.
Запертый на ключ, Тимофей Сергеевич ходил по комнате и с улыбкой думал о своих пацанах. Никогда прежде он с такой нежностью о них не думал. Молодцы, корое-ды! И хотя сама эта сцена, случившаяся у портрета, ничего хорошего ему в дальнейшем не сулила, Нетудыхин был тронут ею до глубины души. То мрачное настроение, которое давило его раньше, куда-то улетучилось. Он почувствовал в себе прилив сил и отчаянной решимости сражаться до конца. Показалось, что замаячил даже выход: шрам, шрам, ко-торый остался от раны, полученной им в бродячей своей юности, вдруг стал оборачи-ваться для него непредвиденным благом. Вот и разберись, где кончается Зло и где начи-нается Добро.
"Перестарался Князь, — думал он о Сатане. — Переусердствовал в своем злом творческом рвении. А шарик-то покатился мимо лузы…"
Но радоваться было пока еще рано, тем более — строить какие-то догадки по по-воду исхода всего дела.
Пришел Зуев — мрачный и злой. И они перекочевали в его кабинет.
— Тебе не надоело вот так, целый день, мучить себя и других рядом с собой? — спросил Зуев, несколько отходя от злости.
— Ну, а что же мне делать? — отозвался таким же незлобливым тоном Нетуды-хин. — Ведь вы же меня обвиняете в страшном преступлении: я претендую на авторитет Ленина. Ну абсурд же это, абсурд! Неужели вы не понимаете?
— А как же быть с портретом?
— Я не имею к этой чертовщине никакого отношения.
— Да, кстати. У тебя в роду нет там, случайно, никаких ведьм, колдунов?
— Вы что? Мои отец и мать — нормальные люди, — сказал Нетудыхин.
— Ну вот, и тут — дупель-пусто. А начальство требует разгадки. В городе шумок нарастает. И портрет этот, несмотря на отсутствие шрама на лбу, твой, Тимофей Сергее-вич. Да-да, твой. Это даже пацанва твоя невольно подтвердила. Сегодня с портрета сде-лали снимки. Я думаю, что экспертиза тоже подтвердит.
— Так что же мне, вешаться, что ли? Или изувечить свою морду до такой степени, чтобы она не имела ничего общего с этим злополучным портретом? — сказал Нетуды-хин.
— Вообще-то, это, конечно, идея — сделать пластическую операцию, — сказал вполне серьезно Зуев. — Но где гарантия, что он не появится на доме быта в новом своем варианте? Наши консультанты поставлены в тупик. Один, правда, подобно тебе, все на абсурде настаивал. Мы, говорит, все подчиняем логике. Здесь же мы имеем дело с абсур-дом, который потому и не подвластен логике, что он абсурд. Поэтому тут, наверное, надо бы исходить из принципов Божественного разумения, кои нам недоступны. Из ума вы-живают старики. Да… А я так думаю: а нельзя ли, ядрена вошь, сделать так, чтобы он, этот портрет, соскользнул как-то оттуда, со стены?
— Каким образом?
— А таким, каким он появился, таким чтоб и исчез — с помощью тебя. Ведь я же не верю, что он появился просто так, без твоих тайных помыслов и страстей. Были же у тебя какие-то притязания аномальные — вот они и проявились. Сегодня ты должен от них отказаться, думать наоборот — может, этот портрет и исчезнет, пропади он пропа-дом!
— Да не было у меня никаких притязаний!