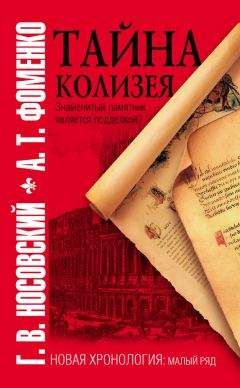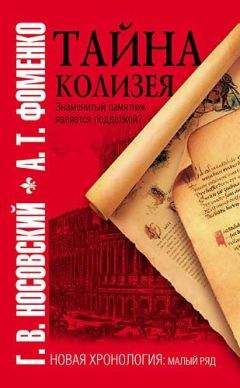Михаил Сергеев - «The Coliseum» (Колизей). Часть 1
Таковым и виделся молодому человеку калейдоскоп сомнений, ошибок и безнадежности, посреди бурь человеческого счастья. Счастья, которое он порой видел в улыбках и веселии вокруг. Счастьем причудливым, непонятным, неизменно ускользавшим от нашего героя. Но и призрачным, ненастоящим. И вот он, он!., один из смертных, решил разобраться с этим. Решил бросить вызов обману, который душил… Освободиться от «полезности», «напора» и «непомерности». Надышаться ароматом сказочной розы.
Наконец, Андрей заснул. Но назвать это состояние тем привычным, знакомым каждому словом было нельзя. Никогда еще, ни наяву, ни в сновидениях, он не испытывал того, что пришло к нему этой ночью, настолько странным, невероятным казалось событие потом… Будто кто-то любит его сильно, сильно… но страшно. Именно страшно. Это не был чей-то порыв, протянутые руки или немой восторг, нет. Но чья-то обволакивающая воля. Кого? Или чего? Кто желал слиться, принять его, ощутить согласие? Ни один образ, известный ему как человеку, не подходил. Но все они были частью личности, поражающей своей глубиной и силой, чьей-то всепроникающей воли, частью неведомого, которое прикрывалось великим чувством, маскируя и заслоняя им свое ужасное начало. Сон длился недолго. Но именно длился… он хорошо это помнил. В отличие от «обрывочного» и редкого, как бывало прежде.
Такого страха Андрей не испытывал никогда. Потом, уже проснувшись, он долго думал… Отчего страх присутствовал в любви? А что это была она, молодой человек не сомневался. Любовь заявляла о себе не как результат увиденного – он ничего не видел, не как следствие чьих-то действий, хотя «нечто» двигалось, обозначая себя, и обращалось к нему, а как чувство, которое спутать ни с чем нельзя. Ибо если предположить, что ты ошибся в нем, то и понимание, кто ты есть сам, должно отойти на второй план, уступая определению любви этой волей… ее приговору. Холодная, абсолютная, она исходила из чего-то непостижимого разумом. Незнакомый прежде опыт, заявив себя, приводил в смятение. Как рыбка из аквариума моряка, выращенная заботой и любовью, уверенная, что весь мир и есть стеклянные стены ее дома, вдруг по хозяйской небрежности попадает в океан, и в смятении цепенеет. Страх и ужас приходят потом. Так и Андрей, в какое-то мгновение почувствовал, что раздавлен. Не уничтожен, а раздавлен и подчинен.
И вдруг… освободился. То было не облегчение. Сравнение не подходило. Рождение, жизнь! Возврат обратно. Обретение знакомого, привычного, несовершенного, порой отталкивающего, но родного. Кто-то дал Андрею, почему-то только ему, почувствовать разницу – где бы мог оказаться человек, не имей защиты… И где может оказаться, отринув ее. Защиты покровителя, объявившего когда-то о нем миру.
И все беды, горести и преступления, насилия и смерть, все страсти земные отошли, потеряли значение и смысл, как испытания, как терпимое зло, которое ни с чем уже и никогда бы не спутал.
А потом он видел себя молодым, жизнерадостным… даже юным. Студентом, подающим надежды, и не только преподавателям. Впрочем, не только надежды, но и сомнения, как и однажды, на лекции.
Тема «Гений и злодейство» не особо заинтересовала студентов – настолько была затаскана. Предложение написать к этому дню эссе также не нашло откликов, кроме одного. Профессор снял очки, положил в футляр и произнес:
– А теперь послушаем другие соображения… я надеюсь. Один из вас их подготовил, остальные, возможно, выскажутся по ходу. Прошу, – он кивнул Андрею, сделал шаг к столу и присел, уступая кафедру.
Пока молодой человек спускался, кто-то из сокурсников, под смешок соседа, выкрикнул:
– Сколько не пиши, Пушкиным не станешь!
– Во-первых, я пишу прозу, – нашелся тот.
– Уже?! – не уступал весельчак. – И как оценивают во дворе?
По аудитории прокатился смех.
Однако докладчик не обратил на это внимания и, раскладывая памятки, добавил:
– Во-вторых, не хочу быть как Пушкин. С его комплексами, тщеславием и даже непониманием мелочности своих поступков.
Зал загудел.
– Поконкретнее! – раздался чей-то возглас.
– О чём? О чём он?!
– Я о мстительности, лицемерии.
– Ну-ка, ну-ка? – профессор вернул очки в руки – место, предназначенное для особых ситуаций, – и откинулся на спинку стула.
Андрей осмотрел аудиторию. Любопытство одних мешалось с ухмылками остальных. Отведя взгляд в сторону, и как бы обращаясь к невидимому слушателю, на лестнице у стены, он начал:
– В битве при Бородино главный удар по багратионовым флешам пришелся на дивизию графа Михаила Семеновича Воронцова. Дивизия погибла. Вся. Триста оставшихся от девяти тысяч раненных солдат и пятьдесят офицеров, вместе с проткнутым в штыковой атаке самим командиром, были перевезены в его имение, где и выздоравливали. Вместе. Как и воевали. Подобные отношения – между чиновником такого уровня и простым человеком – не повторились уже никогда в нашей истории. Именно отношением людей друг к другу, а не военной наукой решился тогда исход сражения.
Зал притих, но тишина была настороженной.
– При Краоне, уже во Франции, случай поставил Воронцова один на один с армией Бонапарта, двукратно превосходившей его корпус. Два соединения, спешившие к месту сражения на подмогу – опоздали. Воронцов выстоял. Не сдвинулся ни на шаг… Там же, на чужбине, женился на знатной польке – из Браницких. А от поляков, как известно, все беды на Руси – то в Киеве засядут, то во Львове, то в Москве, – он уже смотрел прямо в зал.
Тот снова загудел. Докладчик повысил голос:
– Будучи назначенным командовать оккупационным корпусом во Франции, перед тем как по приказу покинуть страну, – продал имение и расплатился по всем долгам русских офицеров. А в Париже их сделать легко, сами понимаете. Брал Варну. За пятьдесят лет до окончательного изгнания турок с Балкан. Одесса, по сути, отстроена Воронцовым. Крым обрел дороги и города во время именно его губернаторства. Воистину, за державу не щадил живота своего. Это вам не сегодняшний чиновник. Один из двадцати шести лучших людей империи, отлитых на памятнике тысячелетия Руси в Великом Новгороде. Между прочим, на пожертвования граждан. А среди них Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Петр, Екатерина… Но в большевистскую теорию не вписывался – причину скажу ниже, если успею. Прекрасное образование, полученное в Лондоне, воспитание в традициях верности отечеству дома, сделали Воронцова настоящим гражданином. Примером всем русским.
Он помолчал, будто чего-то выжидая.
– И вот, именно об этом человеке Пушкин написал:
«Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец».
Это к вопросу совместимости гения и злодейства, поднятом в литературе поэтом. О вместимости гением мелочности и мстительности, которая нивелирует различие между людьми, стоят ли они на монументах, или носят к ним цветы. Снимающая такой вопрос вообще. Добавлю: неспособность заметить и обобщить это, уравнивает дважды. В то время как строки – дважды разделяют. Разорвал, углубил пропасть автор – между Пушкиным человеком и Пушкиным поэтом.
Андрей умолк. Курчавая голова наследника «гнезда Петрова» привиделась каждому понуро опущенной… С ладонью прикрывающей глаза. Зал умер. Но тишина имела власть над ним, ровно до мгновения, когда лестное каждому «уравнивание», было попрано выползающим наружу рабством язычества, которое никуда не делось и не ушло, но точно знало, сколько можно позволить выжидать лести. Родственной, чудовищно родной и к тому же – женщине, властвующей над всеми персонажами жизни и этой книги без исключения.
Спины слушателей распрямились – мгновение пришло.
– А чтобы стихи не родились, – отчеканил Андрей, – Воронцову предлагалось всего лишь… отдать свою жену. Гению. Тот практически уничтожил героя. Вот и вся правда. Она миновала закомплексованного Александра Сергеевича и во многих других эпиграммах. Уже через год, и уже другой даме – Анне Керн, поэт писал: «Я помню чудное мгновение…» Начал с Воронцова, а кончил нелицеприятной, оскорбительной издевкой над Екатериной Великой. Тоже, между прочим, женщиной. И так много раз… Кому интересно – подойдите после.
Зал очнулся.
– Хочешь сказать, если бы поэт волочился за женой Багратиона, мы не знали бы и его? – голос с галерки заставил всех обернуться.
– Именно. Пушкин устраивал большевиков неизмеримо больше графов и князей, среди которых были достойнейшие люди России. Иначе, в их теории произошла бы нестыковка. Не останься в Ялте дворца графа Воронцова, о нем бы вообще никто не вспомнил. Такие уж мы ничтожества. Если поднимаем, так до небес, но топя и забывая правду. Как и между собой, и сегодня, – он оглядел аудиторию. – А потому… всё, что нам выпало… и выпадает – поделом.
Наверху зашептались.