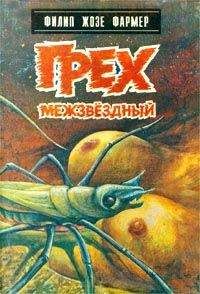Максим Далин - Зеленая кровь
У животных — инстинкты. А у человека — духовность. Человек — высшее существо, он и гадит-то по чистому недоразумению…
Хольвин краем глаза взглянул на волка, замершего на сиденье рядом, глядящего вперед в собачьем дорожном трансе. В настоящий момент отстрел волков в нашей области запрещен. Волчица из этой стаи вот тоже умоляла браконьеров не убивать ее, просила человеческим голосом, пребывая в Старшей Ипостаси — ее это не спасло. И других, похоже, не спасет.
Эволюция или, как верили наши счастливые предки, божья рука, создает все новые и новые способы докричаться до человеческих душ. А души, не взирая на духовность их обладателей, глухи, и чем дальше заходит прогресс, тем меньше шансов расслышать вопли чужой боли, даже если вопят уже на понятном людям языке. Шкуры. Мясо. Так все это оправдывается, но люди лгут. Мясо и шкуры уже давно добываются индустриальным путем, к тому же в настоящий момент людям и без шкур есть чем прикрыть наготу. Охота не нужна, уже в принципе не нужна… если не учитывать, что людям по какой-то глубинной причине иногда необходимо убивать… А города так наступают на лес, что скоро убивать станет некого: лесные жители вымрут сами, от тесноты и грязи. В отличие от людей, большинство животных не может жить в тесноте и грязи. И можно головой об стену биться, вопя: «Остановитесь! Остановитесь!» — никого это не остановит. Пока гром не грянет — а грянет, дайте срок.
Вот тогда можно будет начать молиться. Господь долго ждет, но больно бьет. И мы свое получим — за то, что забавлялись чужой болью, за то, что гадили, где ни попадя, за рысенка с отрезанными пальцами, за убитую волчицу, за тысячи гектаров вырубленного леса, за грязный воздух, за радиоактивные отходы в океане… Ох, я и порадуюсь, когда оно грянет! Даже если буду подыхать вместе со всеми — порадуюсь, за мир порадуюсь. Это ведь будет означать, что есть в мире подлунном справедливость…
А вдоль дороги текли и текли однообразные поля, обсаженные по обочине тополями. Понемногу появился подлесок, болезненного вида березки в осенней ржавчине и черные ели. Волк насторожился:
— Лес, да? А почему пахнет так странно?
— Грязный лес, — ответил Хольвин односложно и хмуро, все еще во власти собственных мрачных мыслей. — Там, дальше — садоводства, с другой стороны дороги — птицефабрика… Свалки, конечно. Грязный лес, в общем.
Волк притих, глядя вперед. Шоссе пересекло грунтовую дорогу с указателем «Садоводство „Веселый уголок“»; у самой обочины стоял громадный контейнер для мусора, полный доверху, мусор валялся вокруг, отчетливо несло помойкой.
— В таких штуках съестное бывает, — сказал волк и вздохнул. — Зимой, если совсем прижмет, можно в таком поискать. Иногда что-нибудь находится…
Хольвин содрогнулся от стыда.
— В Уютном чище, да? — спросил он через силу.
— Да где как, — сказал волк. — Около санатория тоже так. А дальше к озеру чище. Я ж говорю, люди туда редко ходят. А зайцы, они и в парк лезут, бывает. Кормятся.
Машина пролетела полосу пасмура и мелкого дождя, пятнавшего ветровое стекло. Выглянуло солнце, зазолотив желтеющие листья. День сразу повеселел; для октября стало неожиданно тепло, просыхающие капли на придорожной траве вспыхивали яркими и острыми огоньками. Хольвин увеличил скорость; наконец, озеро серой полосой замаячило между деревьями. Волк опустил стекло и принюхивался.
Хольвин остановил машину у обочины шоссе. По сторонам полосы асфальта лес стоял стеной; тут проезжающие обычно давили газ, а не тормоз — настоящий лес опасен для людей случайных. Именно о таких местах все знали, что дачника, отправившегося за грибами, или парочку туристов — любителей приключений тут могут не найти никогда.
Даже трупов не найти.
Этот лес в ста пятидесяти километрах от города, эти заросли и болота, еще населенные живым, неубитым и невыродившимся лесным народом — был истинным пугалом для горожан.
Волк легко перемахнул через придорожную канаву, в которой стояла тинистая вода, и, не перекинувшись, опустился на четвереньки, обнюхивая глянцевый брусничник и белесый пружинистый мох, засыпанный мелкими медными листьями березы. Хольвин захлопнул дверцу внедорожника, следом за волком прыгнул через канаву и тоже принюхался.
Для человека лес благоухал. Пахло корицей опалой листвы, сырым духом мха, грибами и брусникой, тиной и деревом… На границе с человеческой дорогой лес затаился, никакие сущности, ни дневные, ни сумеречные не являли себя, отступили, только в ветвях перекликались птицы. Волк зарылся пальцами в мох, потом лег на него щекой — из-под лесной подстилки просачивалась вода, намокли его густые волосы оттенка алюминия и серая мохнатая трансформированная шкура, но его это, похоже, не смущало и не заботило.
Хольвин дал волку поздороваться с лесом. Потом уже, когда тот сел, повернув к Хольвину отрешенное лицо с блуждающей ухмылкой, посредник счел возможным спросить:
— Где-то здесь? Мы правильно приехали?
Волк ухмыльнулся шире.
— Мокрым муравейником несет, — сказал он рассеянно и счастливо. — Гадкий запах, а сейчас приятно… Дома…
— А еще что чуешь? — спросил Хольвин.
— Замучаюсь перечислять, — хмыкнул волк. — Хорошо пахнет. Пошли.
— Знаешь, куда?
— А то, — волк вскочил, как играющий щенок, встряхнулся, уселся на корточки и, по-прежнему не оборачиваясь, запрокинув голову, издал тот самый звук, от которого у человека в лесу кровь стынет в жилах. Вой.
Вовсе не угроза, что бы люди не воображали. Зов.
Этот призыв, растянутый на двух высоких и темных нотах, отразился от древесных стволов, раскатился долгим замирающим эхом. Волк уже умолк и прислушивался — а отражение его голоса еще таяло где-то в чащобе, постепенно удаляясь. Лес молчал, только в вершинах берез с шелестом гулял ветер.
Волк напряженно слушал, обирая с ушей пряди волос. Хольвин подумал, что Старшая часть его души просто забыла о звере — оттого он и не вернет себе удобные подвижные уши. Как у всех двоесущных, в сложном разуме волка звериная тоска мешалась с человеческой любовью и человеческой надеждой.
Тишина затаившегося леса ранила эту самую надежду. Волк посмотрел на Хольвина с тоскливой болью в желтых глазах — Хольвин ободряюще улыбнулся.
— Ну что ж ты, — сказал с самой спокойной уверенностью. — Зови еще. Зови, боец.
Волк скульнул и снова завыл. С ветки с трыканьем сорвалась сорока. И когда в волчьем голосе уже звучало настоящее отчаяние, из далекого далека, из влажной чащи вдруг пришел ответ.
Низкий мягкий тон, напоминающий соло на саксофоне, вплелся в три более высоких голоса точным музыкальным звуком. Кому бы могло показаться ужасным это пение отчаявшихся, зовущих своего уцелевшего товарища, подумал Хольвин. Старый и трое молодых. Одна из них — сука. Все, что осталось от Стаи?
Будь прокляты убийцы, ведь не оставили волкам никаких шансов…
Но тут к квартету присоединились еще два голоса. Детские дисканты. Щенки-подростки. Нет, не четверо…
Но и на том спасибо.
Волк поднялся с колен, просветлев лицом.
— Пойдем, — сказал он весело. — Слыхал?
— Слава Небесам, — выдохнул Хольвин. — Ждут тебя?
— Моя сеструха жива, — сказал волк. — Моя Нахалка жива. Старый, Шустрый, Пройдоха — и Нахалка. Мои братья и любимая сестра, представляешь?!
Ему хотелось вилять хвостом даже в человеческом виде. Он был счастлив.
Хольвин подождал, пока волк перекинется, а потом пошел за ним, в глухую глубину леса, в удивительное и страшное место, куда люди обычно отправлялись только увешанными оружием, всегда группами, как правило — с мощной радиосвязью, которая, впрочем, зачастую не срабатывала от непонятных ученым причин.
И дело было вовсе не в Лиге, не в ее Золотой Бабочке, эмблеме, которая уже третью тысячу лет обозначала одно — живую душу мира. В другом. Для того, чтобы быть настоящим посредником, надо быть настоящим Хозяином. А вот это Хольвин не мог бы объяснить никому — этот странный дар весьма редко бывал врожденным, иногда он вдруг проявлялся, иногда с возрастом пропадал и был вообще неуловим ни для каких человеческих приборов и органов чувств. Он просто приходил, как жаркая волна навстречу живому — человеческая способность сопереживать чуждым тебе созданиям, обычный спонтанно возникающий телепатический контакт — тот самый, который создают члены Стаи или Стада животных. А еще — способность ощущать и видеть лес не так, как это выходит у охотников или исследователей, а так, как его ощущают и видят двоесущные.
От видения двоесущных восприятие Хозяина отличала только одна особенность. Хольвин знал, что может не только видеть, но и влиять — общаясь с Хранителями. Стоило лишь перейти ту невидимую грань, этакую полосу отчуждения, которая отделала живой мир леса от полуживого, оккупированного людьми, как Хранители обнаруживались всюду вокруг. Эта способность и давала посредникам особые полномочия: в лесу и в поле, погода и климат, миграции всяческих живых существ, даже катастрофы и эпидемии более или менее контролировались Лигой — во всяком случае, так считалось.