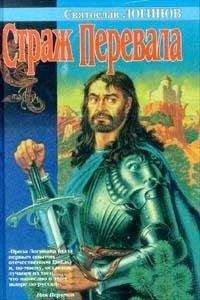Светлана Дильдина - Восемнадцать роз Ашуана
В лицо ударил свежий, пахнущий травой и водорослями ветер. Ренато задохнулся — свет, дневной свет; пустое сизое небо над головой, вместо мягкости любимого кресла — ощущение жесткой земли, высокие стебли костреца и ежи.
Взгляд уперся в лежащие на коленях руки — не старческие, дряблые, покрытые темными пятнами, а золотистые от легкого загара, худые мальчишечьи.
Он вскрикнул от неожиданности, и звонкий голос толкнулся в горле, послушный, чухой — и такой знакомый. Его собственный.
Высоко в блеклом воздухе подрагивали провода, над ними летела ворона, очень маленькая отсюда, с земли.
— Я… умер? — тихо сказал себе мальчик, и понял, что врет. Он не это испытывал, не это хотел произнести, и вообще не успел понять, чего хочет. Он помнил только, что его звали Ренато… кажется, так.
И сидел он на склоне холма, вдалеке поблескивала река, справа и слева простирались поля, в которых, как грибы, то тут, то там стояли небольшие домики. Ближе к реке они сбивались в кучки, понемногу образуя город. Мальчик не смотрел туда — он вдыхал влажный ветер.
Где-то невдалеке был и его собственный дом, место, где мальчика ждали, привыкли видеть именно таким — полотняных светлых штанах, майке с короткими рукавами, не обладающего ни силой, ни связями…
Потом все исчезло — или вернулось. Тяжелые портьеры, не менее тяжкий запах лекарств — после свежего воздуха он показался невыносимым. Бледно-оранжевый огонек ночника, массивное кресло и тишина, не та, которая бывает в безлюдном свободном месте, а тишина замкнутой больничной палаты.
Это мой дом, сказал себе Ренато. Дом… родной, созданный на мои деньги по моему желанию. Тот, который я всегда хотел иметь и который был рад получить.
За окнами стояла поздняя осень; даже не отодвигая штор, не открывая окна он знал, чувствовал — несомненно, только так, не иначе. Лето осталось на склоне. Холодное лето, чистое и безжалостное…
— Как твоя такса, Дениза? Сегодня ты с ней не гуляла.
— Такса? — недоуменные морщинки пересекли лоб женщины. — Простите?
— Такса, — терпеливо повторил Ренато. — Твоя собака.
— У меня никогда не было собаки. С детства аллергия на собачью шерсть…
Виктор пришел к нему еще раз, и еще — теперь без жены, пробовал поговорить и как почтительный сын с отцом, и как деловой человек с другим деловым человеком. Ему был нужен один звонок. Пока Ренато жив и в здравом уме… всего один звонок, и дела пойдут в гору.
Прикосновение старческой руки могло покатить камень вверх по склону, и оба это понимали. Но Ренато не хотел ничего. Апатия овладела всем его существом — порой корил себя за то, что не испытывает желания помогать сыну, родному… но как давно они стали родными только формально?
Хотя все формальности соблюдались на диво, надо отдать Виктору должное. Будто и впрямь любовь и дружба в семье. Но ведь и лицемерием это не было. Данью традициям? Чувством долга?
Какой сейчас смысл разбираться…
* * *Лейвере — тихий уголок, город в двести тысяч жителей. Сверху он походил на улитку, что ползет себе по травинке. Только травинкой была река Лей. Один большой мост через нее и пара поменьше, а на другой стороне — все больше поля и фермы.
Федеральная трасса, по которой вечно текли машины, выглядела панцирем улитки.
В Лейвере делали елочные игрушки. По крайней мере, остальной мир знал только это. Но местный университет был неплох — в нем трудились педагоги старой закалки, мэрия щедро платила им — больше, чем во многих крупных городах.
И студенты порой выбирали учиться в Лейвере, а не в столице — а потом подтвердить свой диплом.
Если бы человек мог выбирать, где родиться, именно этот уголок привлек бы его, Ренато Станка, несомненно. Не глушь — мирное местечко, где самое яркое событие — показ новой кинокартины или визит какой-нибудь не самой популярной «звезды».
Может, они сами выбрали появиться на свет именно здесь? Тогда некого обвинять.
Их мать звали красиво — Евгения. Уцелевшие фотографии сохранили облик нежной, как незабудка, девушки с гордо поднятой головкой. Годы оставили от прежней красоты только глаза и взгляд — темный, тревожный и ласковый.
Ни Марк, ни Ренато, с их волосами цвета ковыля, на мать не походили — особенно тощий и острый, как цапля, Марк.
Позвать Микаэлу и поведать ей… внучкам и правнучкам положено рассказывать сказки. Жили-были в далекой стране два брата — старший — глупый и злой, и младший — умный и добрый. И вот однажды…
Нет.
Этой сказки Ренато никогда не расскажет.
На столе поблескивали склянки с лекарствами. Если прикрыть глаза, видны только блики, и на мгновение померещится, что перед тобой рассыпаны гладкие камешки. А запах сердечных капель сменится острым запахом йода…
— Это твоя морская сказка? Горсть камней?
Рассыпанные по дорожке, полосатые, округлые, камешки выглядят обычными голышами. И Ренни хочется разреветься, кинуться собирать сокровища, которые отец привез с моря, но он видит себя — ползающего на карачках, перемазанного, в песке и земле, и молчит, только губы подрагивают.
А тот — ухмыляется… и не полезешь в драку, потому что он — сильнее.
Отец привез с моря мешочек, пахнущий солью…
В нем оказалась небольшая раковина, похожая на смятую консервную банку, и камешки… если их намочить, они темнели, становились яркими, с разноцветным рисунком.
Но и сухие, тусклые, хранили в себе радугу и прикосновения моря.
Ренни только слышал о нем. А когда отец уехал на побережье по делам службы, ждал его, просыпался среди ночи, будто отец мог привезти кусочек моря с собой. Сине-серого или голубого, горько-соленого — Ренни пытался понять, какой вкус у морской воды, смешивая соль и йод в чашке.
Отец привез мешочек с подарком — младшему сыну. Старшему купил майку. Марк не носил ее — разве что надел пару раз, когда больше нечего было…
"Погоди, я еще вырасту", — думает Ренни.
* * *Темно-красные пионы в руках Микаэлы… кто придумал растить их в оранжереях и срезать поздней осенью? Лохматые, расплываются в глазах, будто мазки на картине, спрыснутые дождем. Не пахнут. Мертвые изначально. Неправильные.
Но красивые, боги… в руках Микаэлы — красивые.
Она достает вазу, наливает воду, ставит букет — как делает постоянно. Смеется, щебечет что-то неинтересное, блестят огромные кольца в ушах, смоляные кудряшки облаком.
Трещит, как сорока — кажется, о мальчиках и танцах, и пусть болтает.
Ренато следил за правнучкой, пытаясь понять, кого та напоминает ему. В его юности девушки были другими… походили на ракушки — может, и яркие, но закрытые. Более строгими были наряды, манеры, взгляды… а внутри, наверное, все то же самое…
— Императрица, — говорила Микаэла, раскладывая по столу прямоугольнички карт, изукрашенные причудливыми картинками. Ренато как-то рассмотрел их поближе — и ничего не понял.
— Это не для игры, дедушка, — объяснила тогда Микаэла. — А чтобы гадать.
Старик тогда потерял интерес к колоде. Глупости все… а сейчас, наблюдая за проворно мелькающими руками девчонки, подумал — когда ж вопрошать судьбу, как не в шестнадцать лет?
В эти лета еще не знаешь страха перед неизбежным, и весь мир перед тобой, и если гадание не устроит, можно просто не верить — или разложить карты заново.
Сейчас девчонка раскладывала карты ему, искренне верящая, что у ее прадеда есть будущее.
— Эта карта дает совет… — Микаэла полезла в глянцевую маленькую книжечку, с воодушевлением прочитала: — Совет подойти к делу трезво и объективно, осознавая свою ответственность за принятие решения. Она же предостерегает — избегать предвзятости и веры в непогрешимость собственного суждения.
Ренато молча выслушал трактовку выпавшей карты. Только-то? Он всегда подходил к любому решению взвешенно. Потому и сколотил состояние.
Девчонка вытащила следующую карту и прочла ее значение. Если верить книжке, Ренато полагалось поверить в свои способности, в возможность справиться с предстоящим делом. Однако не стоило забывать, что для достижения цели не все средства хороши.
Какие там цели, подумал старик. К чему это все? Да, гадать хорошо, когда тебе шестнадцать лет… даже в тридцать уже становишься циником. Ну, или по крайней мере веришь, что все происходящее в жизни — дело твоих собственных рук.