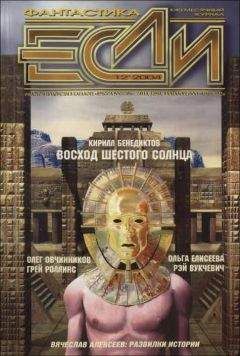Кирилл Бенедиктов - Золото и кокаин
Я проснулся от прикосновения холодного лезвия к своей шее.
Это ощущение нельзя спутать ни с чем.
В детстве матушка рассказывала мне сказку о юноше, заснувшем под деревом. Пока он спал, мимо прошел богач, который подумал о том, не сделать ли его своим наследником, затем девушка, в чьем сердце при виде его обрамленного золотыми кудрями лица вспыхнула страсть, и, наконец, разбойники, решившие убить юношу спящим. По причинам, которых я уже, признаться, не помню, ни один из них не исполнил своего намерения, и юноша благополучно проснулся и продолжил свой путь, так и не узнав, что его миновали Богатство, Любовь и Смерть. Когда я был мал, эта сказочка мне очень нравилась, но теперь я знаю, что она не вполне правдива.
Когда Смерть, наклонившись над тобою, спящим, бесшумно поднимает свою косу, ты каким-то образом чувствуешь это, даже если спишь очень крепко. И открываешь глаза за миг до рокового удара.
Я проснулся за мгновение до того, как острый толедский клинок пронзил бы мне гортань. И, еще не понимая, что происходит, рывком перекатился на бок.
Клинок скользнул вслед за мной, но недостаточно проворно. Я упал с жесткого топчана, на котором так долго ворочался вчера, перед тем как заснуть, и лезвие шпаги только оцарапало мне плечо.
Был мрачный предрассветный час, когда непроглядная полночная темень уже уступает место хмурым сумеркам. В этих сумерках невозможно было различить лиц моих врагов — я видел лишь две зловещие фигуры в черных плащах, стоящие по другую сторону топчана. В руках у них были шпаги, и шпаги эти были нацелены на меня.
Плохо сколоченный деревянный ящик, накрытый тощей периной, нисколько не скрывавшей несовершенства столярной работы неизвестного умельца (я хочу сказать, что отлежал все бока на этом топчане), — вот и все, что отделяло меня от ночных убийц. Мое оружие висело на гвозде у самой двери, и до него я мог бы добраться, только если бы непрошеные гости любезно посторонились. Им удалось застать меня в самый невыгодный момент: я был в одной рубашке, безоружен и не вполне пришел в себя после вчерашнего. Накануне мы с Гонсало и Федерико славно покутили в таверне «У золотого осла», а потом решили завалиться на мельницу к старине Хорхе, чтобы продолжить веселье на свежем воздухе. У старого Хорхе, как всем хорошо известно, три дочки на выданье, и по крайней мере две из них не прочь составить компанию молодым людям с приличными манерами. Третья, пятнадцатилетняя Хуана, слишком скромна для таких забав.
Хорхе выставил нам большой глиняный кувшин какой-то кислятины, которая, однако, довольно быстро затуманила наш и без того не слишком трезвый рассудок. Смутно помню, что сидел с одной из дочек мельника (почти уверен, что со средней, Паолой) над запрудой и рассказывал ей что-то про древних греков. Кажется, я именовал ее Артемидой и звал поохотиться в поля. Она смеялась и в шутку била меня по щекам цветком мальвы.
Затем я каким-то образом очутился в тесной маленькой клетушке, которую Хорхе называет комнатой для гостей. Мне уже как-то доводилось бывать тут, и я хорошо помнил, что по ночам мельничное колесо скрипит прямо у тебя над ухом, не давая заснуть. Но проклятый мельник на все мои возражения с тупым упорством повторял, что других свободных комнат у него нет. Хотелось бы знать, где он положил Гонсало и Федерико, неужели на сеновале?
Вдобавок ко всему пробуждение оказалось не из приятных. Глядя с пола на непрошеных гостей, я решил, что ни за что больше не стану ночевать у старого скряги — есть места поприличнее, где за полновесный золотой дублон можно получить не только приятное женское общество, но и жареный окорок, доброе вино и мягкую кровать.
Впрочем, этот зарок имел хоть какой-нибудь смысл только в том случае, если бы мне удалось выбраться с мельницы живым. А шансов на это, признаюсь честно, было немного.
Двое убийц (их плащи и особенно мерзкая манера тыкать клинком в горло спящему не оставляли сомнений в роде их занятий), насколько я мог разобрать в предрассветной мгле, превосходили меня ростом и сложением. Я не могу пожаловаться ни на то, ни на другое — батюшка мой, в молодости считавшийся одним из самых сильных людей Кастилии и Леона, передал мне в наследство крепкую кость, рост в шесть с половиной пье[2] и широкие плечи. Увы, это единственное наследство, которое я получил от него, кроме сомнительного счастья именоваться младшим сыном благородного идальго Мартина де Алькорон. Я третий сын в семье; мог бы оказаться и четвертым, если бы младенец Хуан не умер во младенчестве за два года до моего рождения. Род наш древний и славный; когда-то нам принадлежали обширные земельные угодья в окрестностях Толедо, которые, однако, еще во времена молодости моего деда, старого Сальватора, уплыли в руки жадных кредиторов и разного рода выжиг. К тому моменту, когда закутанные в плащи негодяи вознамерились проткнуть меня своими клинками, семья Алькорон владела лишь небольшим замком, расположенным, правда, в чрезвычайно живописном лесу к западу от Саламанки, и десятью акрами этого самого леса. Замок по смерти батюшки, который, к счастью, был еще крепок и вполне здоров, должен был перейти к моему старшему брату Педро, лес и некоторая доля в корабельных мастерских Кадиса — среднему брату Луису, тогда как мне, как я уже упоминал, оставались только фамильные сила, проворство и безрассудная храбрость мужчин рода Алькорон.
Впрочем, в сложившейся ситуации именно это наследство могло пригодиться мне куда больше, чем недвижимость и даже мешок дублонов.
Правда, о том, чтобы справиться с негодяями голыми руками, нечего было и думать. В одном из них росту было под два метра; во всяком случае, он горбился, чтобы не задеть затылком потолок. Руки у него были длинные, как у большой обезьяны, которую я в детстве видел в бродячем зверинце. Такими ручищами не так уж сложно схватить даже крупного и мускулистого юношу вроде меня и неторопливо скручивать его узлом, подобно тому как хозяйки выжимают мокрое белье. Второй — тот самый, что хотел проткнуть мне горло, — был пониже, но гораздо шире в плечах. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что силой этот тип вполне может соперничать с библейским Самсоном, который на досуге любил раздирать пасть льву.
К тому же у них были шпаги и, весьма вероятно, кинжалы, которые подобная публика любит носить под плащами. Короче говоря, рассчитывать на одну лишь силу в поединке с ними не приходилось.
Оставалось надеяться на проворство и безрассудную храбрость, причем внутренний голос нашептывал мне, что последняя в данном случае может только повредить.
У вас, возможно, создается впечатление, что я раздумывал над создавшимся положением, вольготно расположившись на полу за топчаном и никуда особенно не торопясь. На самом деле все эти мысли (включая сожаления по поводу наследства) промелькнули в моей голове за считаные доли секунды; блеснул перед моим внутренним взором чудесный образ юной Лауры, свежей, как украшенный крупными каплями росы только что распустившийся бутон алой розы; блеснул и погас, заслоненный видением совсем иного рода — омерзительной рожей негодяя, надвигавшегося на меня с обнаженной шпагой в руке.
То ли в комнате каким-то чудом стало светлее, то ли мои глаза притерпелись к темноте, но теперь я видел его лицо вполне отчетливо.
У него был широкий лягушечий рот, кривившийся в злобной ухмылке. Я успел заметить гнилые черные зубы и тянувшийся от угла рта к уху широкий безобразный шрам, оставленный, скорее всего, разбойничьей навахой; такие детали почему-то всегда намертво впиваются в память, словно репьи в одежду. В следующий момент произошло сразу два события: Шрам (дальше для удобства я буду называть его так) отвел назад локоть, чтобы прикончить меня своей шпагой, а я, по милости Божьей, нашел наконец хоть что-то, что можно было с некоторой натяжкой считать оружием.
Это оказался ночной горшок.
Я совершенно не помню, чтобы он стоял там накануне. Видимо, Хорхе, в сердце которого крестьянская прижимистость боролась с почтением к моему благородному происхождению, принес мне его, когда я уже спал. Вы, конечно, возразите, что даже самый отъявленный сквалыга вряд ли откажется снабдить пьяного гостя этим полезным приспособлением, хотя бы из соображений чисто практических, и будете, безусловно, правы. Но сквалыга наверняка ограничился бы какой-нибудь ненужной ему самому емкостью — и в этом случае вы не читали бы сейчас эту повесть. Предмет, который Хорхе заботливо поставил возле моего топчана, был не какой-нибудь рассохшейся деревянной лоханью, которую не жалко потом пустить на растопку; нет, это был прекрасный медный горшок, который не стыдно предложить настоящему идальго, горшок размером и весом с каску итальянского кондотьера. Собственно, это обстоятельство и спасло мне жизнь.