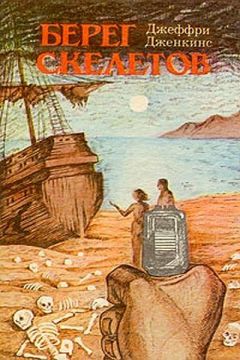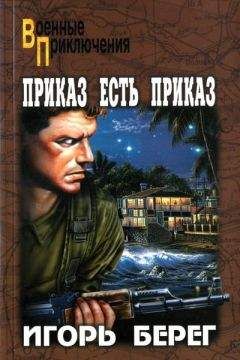Джеймс Баллард - Последний берег
– Прощай, Эниветок, – пробормотал Травен.
Где-то вдали будто мелькнул свет, и один из кубов исчез, как сброшенная костяшка на счетах.
Прощай, Лос-Аламос. И снова ему показалось, что исчез один куб. Стены коридоров вокруг оставались нетронутыми, но где-то в мысленном пространстве Травена появился маленький пробел.
Прощай, Хиросима.
Прощай, Аламогордо.
Прощайте, Москва, Лондон, Париж, Нью-Йорк…
Мелькание костяшек, отзвуки потерянных единиц… Травен остановился, осознав тщетность своего грандиозного прощания. Такое расставание требовало от него подписи на каждой частице покидаемой вселенной.
Абсолютный полдень: Эниветок
Теперь блоки лабиринта располагались на безостановочно вращающемся колесе обозрения. Они уносили Травена в небо, и с высоты он видел и остров, и море, а затем возвращался вниз сквозь непрозрачный диск бетонной равнины. Оттуда Травен видел изнанку бетонной коронки острова с ее вывернутым ландшафтом прямоугольных провалов, с куполами системы водоемов и тысячами пустых кубических ям на месте лабиринта.
«Прощай, Травен»
Ближе к концу он разочарованно обнаружил, что это предельное самоотречение не дало ему ровным счетом ничего.
Взглянув в один из периодов просветления на свои исхудавшие конечности, Травен увидел кружевной рисунок расползавшихся язв. Справа от него плутал в потревоженной пыли смазанный след его ослабевших ног.
Слева тянулся длинный коридор лабиринта, соединявшийся с другим в сотне метров от Травена. За перекрестком, где случайный узкий просвет открывал пустое пространство, просматривалась, словно зависшая над землей, тень в форме полумесяца.
Следующие полчаса тень медленно ползла, постепенно меняя профиль дюны.
Расселина
Уцепившись сознанием за этот знак, явившийся ему словно герб на щите, Травен заставил себя двигаться. Он с трудом поднялся, прикрыл глаза, чтобы не видеть бетонных кубов, и пошел вперед, останавливаясь через каждые несколько шагов.
Спустя десять минут он выбрался, шатаясь, за западную границу лабиринта, словно голодный нищий, забредший в молчаливый покинутый город на краю пустыни. До дюны оставалось еще метров пятьдесят. А за ней, укрытый тенью, словно ширмой, тянулся влево и вправо от Травена известняковый гребень. Полузанесенные песком, валялись тут останки старого бульдозера, мотки колючей проволоки и двухсотлитровые бочки. Травен медленно добрел до дюны. Уходить от этой безликой песчаной опухоли не хотелось. Он потоптался у ее основания, затем сел в начале неглубокой расселины под выступом скалы.
Отряхнув одежду, Травен терпеливо смотрел на концентрические дуги, составленные из бетонных кубов.
И только минут через десять он заметил, что за ним кто-то наблюдает.
Забытый японец
Труп, чьи глаза смотрели на Травена снизу вверх, лежал слева от него на дне расселины. Это был мужчина средних лет, коренастый; он лежал на спине, прижав ладони к вискам, словно рассматривал что-то в небе, а голова его покоилась на подушке из камней. Одежда на нем истлела, облепив его как саван, но поскольку на острове не было даже мелких хищников, плоть прекрасно сохранилась. Лишь кое-где, на сгибе колена или на запястьях, просвечивали сквозь тонкий пергамент кожи кости, но лицо сохранило все свои черты – тип образованного японца. Разглядывая крупный нос, высокий лоб и широкий рот, Травен решил, что это скорее всего врач или адвокат.
Удивляясь, как тут оказался труп, Травен сполз в расселину. Радиационных ожогов на коже японца не было – значит, он попал сюда лет пять назад или даже меньше. Да и одежда не походила на форменную – едва ли он тогда из какой-нибудь военной или научной группы.
Рядом с трупом, слева, лежал обтрепанный кожаный футляр – планшет для карт. Справа – останки рюкзака, из которых выглядывали фляга с водой и маленький походный котелок.
Травен заскользил вниз по склону, пока его ноги не уперлись в растрескавшиеся подошвы ботинок японца. Голод заставил его на мгновение забыть, что тот специально выбрал расселину, чтобы умереть. Он протянул руку и выхватил из рюкзака флягу: на самом дне плескалось немного ржавой жидкости. Травен в несколько глотков выпил безвкусную воду, и растворенные металлические соли осели на его губах и на языке горькой пленкой. В котелке, кроме чуть липкого осадка высохшего сиропа, ничего не оказалось. Травен соскреб его краем крышки и принялся жевать смолистые чешуйки – они растворялись во рту с почти одурманивающей сладостью. Спустя несколько секунд у него даже голова закружилась, и он привалился спиной к камню рядом с трупом. Незрячие неподвижные глаза японца взирали на него с состраданием.
Муха
(Маленькая мушка, которая, по мнению Травена, последовала за ним в расселину, жужжит теперь у лица мертвого японца. С некоторым чувством вины Травен наклоняется, чтобы убить ее, но вдруг осознает, что, возможно, этот крохотный страж долгое время был единственным другом японца, а в качестве компенсации питался богатыми выделениями из его пор. Осторожно, чтобы случайно не повредить мушки, Травен приглашает ее сесть к нему на запястье.)
Доктор Ясуда. Благодарю вас, Травен. В моем положении, сами понимаете…
Травен. Конечно, доктор. Прошу прощения за то, что пытался ее убить – знаете, врожденные привычки… От них не так-то просто избавиться… Дети вашей сестры в Осаке в сорок четвертом… Ужасы войны… Я не хочу их оправдывать. Большинство известных мотивов вражды столь отвратительны, что люди пытаются отыскать какие-то неизвестные в надежде…
Ясуда. Прошу вас, Травен, не смущайтесь. Мухе повезло, что она сохраняет себя так долго. Сын, которого вы оплакиваете, не говоря уже о двух моих племянницах и племяннике, – разве не умирают они каждый день снова и снова? Все родители в мире горюют по утраченным сыновьям и дочерям – по тем, какими их дети были в раннем возрасте.
Травен. Вы чрезвычайно терпимы, доктор. Я бы не осмелился…
Ясуда. Вовсе нет, Травен. Я не ищу вам оправданий. Все мы в итоге представляем собой лишь малую толику бесконечных нереализованных возможностей, дарованных нам в жизни. Но ваш сын и мой племянник навсегда остались у вас и у меня в памяти именно такими, какими были тогда, и их «я» неизменны, как звезды в небесах.
Травен (не очень уверенно). Возможно, это и так, доктор, но отсюда следует опасный вывод относительно этого острова. Бетонные кубы, например…
Ясуда. Я именно их и имею в виду, Травен. Здесь, в лабиринте, можно обрести наконец свое собственное «я», свободное от опасного влияния времени и пространства. Этот остров – онтологический рай, так зачем же изгонять себя самого в этот изменчивый мир?
Травен. Простите… (Муха уселась прямо в высохшую глазницу японца, отчего у мудрого доктора насмешливо заблестел глаз. Наклонившись вперед, Травен сгоняет ее и заманивает на свою ладонь, потом внимательно разглядывает.) Да, возможно, бункеры и в самом деле носят онтологический характер, но я сомневаюсь, что теми же свойствами обладает муха. Это, безусловно, единственная муха на острове, что почти так же хорошо…
Ясуда. Вы не в состоянии принять множественность вселенной, Травен, – вы не пробовали задаться вопросом «почему»? И чем вас так притягивает этот остров? Мне кажется, вы охотитесь за белым левиафаном, за чем-то несуществующим. Этот остров опасен. Бегите отсюда. Будьте покорны и следуйте философии смирения.
Травен. Тогда могу ли я спросить, зачем здесь вы, доктор?
Ясуда. Чтобы кормить эту муху. «Бывает ли любовь сильнее…»
Травен (все еще растерянно). Впрочем, это не решает моей проблемы. Эти кубы, понимаете ли…
Ясуда. Хорошо. Если вам так необходимо…
Травен. Но, доктор…
Ясуда (повелительно). Убейте муху!
Травен. Но ведь это еще не конец, да и не начало… (В отчаянье он убивает муху. Затем падает без сил рядом с трупом и засыпает.)
Последний берег
Пытаясь отыскать на свалке за дюнами кусок веревки, Травен наткнулся на моток ржавой проволоки. Распутав проволоку, он обмотал ею труп и вытащил его из расселины. Из крышки деревянного ящика получились примитивные салазки. Травен посадил на них труп, привязал и двинулся по краю лабиринта. Остров безмолвствовал. В горячем воздухе застыли неподвижные пальмы, и только благодаря собственному перемещению менялись непостоянные символы их перекрещенных стволов. Квадратные башенки телеметрических постов торчали над дюнами, словно забытые обелиски.
Час спустя, добравшись до навеса у своего бункера, Травен отцепил проволоку, обмотанную вокруг пояса. Затем взял складное кресло, оставленное ему доктором Осборном, отнес его примерно на середину пути от своего убежища до лабиринта, посадил туда мертвого японца, уложив его руки на деревянные подлокотники, чтобы создавалось впечатление безмятежного покоя, и привязал.