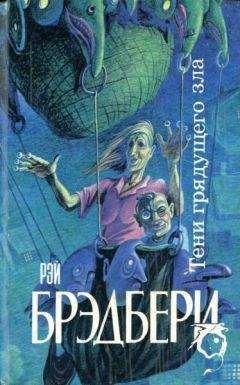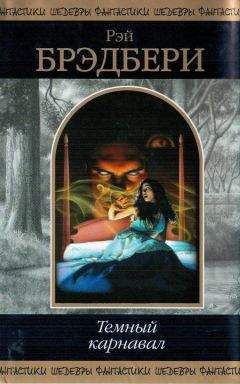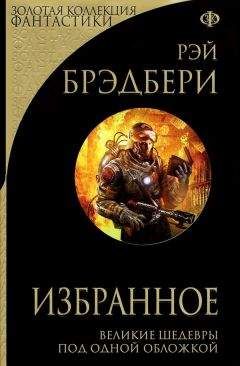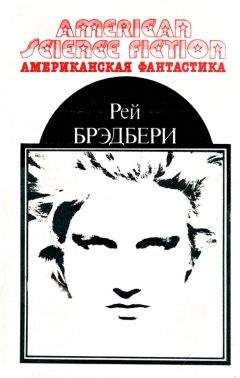Рэй Брэдбери - Тени грядущего зла
САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!
И тем не менее, в этом громадном куске зимнего стекла не было ничего, кроме замерзшей речной воды.
Нет. Не совсем.
Хэлоуэй почувствовал, как его сердце учащенно забилось.
Не таится ли внутри этого огромного зимнего самоцвета некий особенный вакуум? Сладострастная пустота, которая плавно и округло тянется от основания до вершины глыбы? Не жаждал ли этот вакуум, эта пустота наполниться теплой плотью, и не было ли это пространство чем-то похоже на… женщину?
Да.
Лед. И прелестные впадины, горизонтальный поток пустоты внутри холодного кристалла.
Прелестное ничто. Изысканный абрис невидимой русалки, бесстрашно захватившей ледяную стихию.
Лед был холодным.
Пустота внутри льда была теплой.
Чарльз Хэлоуэй хотел уйти прочь отсюда.
И все же стоял в темноте этой странной ночи, вглядываясь в пустой магазин, пару козел и холодный, ждущий, арктический гроб, похожий в темноте на алмаз, на огромную Звезду Индии…
6Джим Найтшед, вздохнув, остановился на углу Гикори и Мейн-стрит, с нежностью вглядываясь в совеем темную от густой листвы Гикори.
— Уилл?
— Нет! — Уилл остановился, сам удивленный своей решительностью.
— Это точно там. Пятый дом. Только одну минуту, Уилл, — мягко попросил Джим.
— Минуту? — Уилл скользнул взглядом по улице, которая стала теперь улицей Театра.
До нынешнего лета она была самой обыкновенной улицей, где они воровали персики, сливы и абрикосы. Но в августе, когда мальчишки как обезьяны лазали за недозрелыми яблоками, произошла «вещь», которая разом изменила дома, вкус фруктов и самый воздух среди шепчущихся деревьев.
— Уилл! — зашептал Джим. — Может как раз сейчас там что-то происходит!
Возможно, что-то происходит. Уилл тяжело сглотнул и почувствовал, как Джим сжал его руку.
Ибо это было гораздо меньше самой улицы, которая славилась яблоками, сливами и абрикосами, это был всего лишь дом с окном, выходившим в сад; Джим говорил, что это окно — сцена, а тень — занавес, и он поднят. В этой комнате, на этой странной сцене актеры разыгрывали мистерии, изрыгали страшные слова, много смеялись, вздыхали, бормотали; но многое из их шепота Уилл не понимал.
— Последний раз, Уилл.
— Сам же знаешь, что не последний.
Лицо Джима покрылось испариной, щеки пылали, глаза сверкали зеленым огнем. Уилл вспомнил, как в ту ночь они рвали яблоки, и как Джим вдруг вскрикнул: «Ой, смотри!»
И Уилл, повисший на ветках яблони, крепко зажатый сучьями, в страшном волнении уставился на диковинную сцену Театра, где незнакомые люди размахивали рубашками над головой, бросали одежду на ковер, стояли обезумевшие и безвольные, нагие, как подрагивающие на морозе лошади, протягивали руки, чтобы коснуться друг Друга…
Что они делают! — подумал Уилл. Почему они смеются? Что же с ними такое, что же это такое?!
Ему захотелось, чтобы погас свет.
Но он висел, крепко сжав дерево, неожиданно сделавшееся скользким под его ладонями, и смотрел на светящееся окно Театра, слышал смех; наконец замерз и разжал руки, соскользнул вниз, упал и какое-то время лежал, ошеломленный, а затем встал во тьме и посмотрел на Джима, который все еще цеплялся за ветку. Лицо Джима, покрасневшее, с пылающими щеками и открытым ртом было обращено к окну. «Джим, Джим, спускайся вниз!» Но Джим не слышал. «Джим!» И когда Джим посмотрел, наконец, вниз, Уилл показался ему совсем чужим с его дурацкой просьбой отбросить жизнь и опуститься на землю. И тогда Уилл убежал, одинокий, думая слишком о многом, не думая вовсе ничего, не знающий что подумать…
— Уилл, ну пожалуйста…
Уилл посмотрел на Джима, державшего книги.
— Мы ведь были в библиотеке. Разве этого мало?
Джим покачал головой.
— Возьми мои книжки.
Он протянул Уиллу книги и двинулся под шелестящие и шепчущие деревья. Пройдя три дома, он обернулся и крикнул:
— Уилл? Знаешь ты кто? Ты проклятый, старый, тупой епископальный баптист!
И Джим ушел.
Уилл крепко прижал книги к груди. Они стали влажными от его ладоней. «Не оглядывайся! — думал он. — Не буду! Не буду!»
Он заставил себя смотреть только в сторону своего дома, и пошел по этой дороге. Быстро.
7На полпути к дому Уилл услышал за спиной тяжелое дыхание.
— Театр закрылся? — спросил Уилл, не оборачиваясь. Джим довольно долго молча шел рядом и лишь потом сказал:
— Дом пустой.
— Отлично!
Джим плюнул.
— Ты, проклятый баптистский проповедник!
Из-за угла словно перекати-поле выкатился огромный ком блеклой бумаги, который подскочил, затем, трепеща на ветру, прижался к ногам Джима.
Уилл со смехом сграбастал бумагу, швырнул по ветру — пусть летит! И вдруг перестал смеяться.
Мальчишки, наблюдая, как блеклый шуршащий ком удаляется, пролетает между деревьями, внезапно замерли.
— Подожди-ка… — медленно сказал Джим.
И вдруг они закричали, запрыгали и побежали.
— Не порви его! Осторожней.
Бумага билась в их руках, как пойманная птица.
«Приходите двадцать четвертого октября!»
Их губы шевелились, следуя за словами, набранными шрифтом в стиле рококо.
«Кугера и Дака…»
«Карнавал!»
«Двадцать четвертого октября! Это завтра!»
— Не может быть, — сказал Уилл. — После Дня Труда карнавалов не бывает.
— Тысяча и одно чудо! Смотри!
«Мефистофель! Пьющий Лаву! Мистер Электрико!
Монстр Монгольфьер!»
— Воздушный шар, — сказал Уилл. — Монгольфьер — воздушный шар.
— «Мадемуазель Таро!» — прочитал Джим. — «Повешенный человек. Дьявольская гильотина! Разрисованный человек». Ого!
— Всего лишь старое пугало с татуировкой!
— Нет. — Джим дунул на бумагу. — Он разрисованный. Специально. Смотри! Покрыт чудовищами! Целый зверинец! — Глаза Джима сверкали. — Гляди! Скелет! Разве это не замечательно, Уилл? Не просто тощий человек, нет, а «Скелет»! Смотри! Пылевая Ведьма! Что это за Пылевая Ведьма, Уилл?
— Грязная старая цыганка.
— Нет. — Джим прищурился, разглядывая картинки. — Цыганка, которая родилась в пыли, выросла в пыли, и в один прекрасный день со страху превратилась в пыль. «Египетский зеркальный лабиринт! Увидишь сам себя десять тысяч раз! Храм искушений святого Антония!».
— «Самая прекрасная… — начал Уилл.
— …женщина в мире!» — закончил Джим.
Они посмотрели друг на друга.
— Разве может карнавал иметь Самую Прекрасную Женщину на Земле в каком-то вставном номере, Уилл?
— Ты когда-нибудь видел карнавальных леди, Джим?
— Так, так… медведи гризли… Но как сюда попала эта афиша…
— Ох, заткнись ты!
— Ты не сердишься на меня, Уилл?
— Нет.
Ветер вырвал бумагу из их рук.
Афиша взлетела над деревьями в каком-то сумасшедшем прыжке. И исчезла.
— Все это сущее вранье. — Уилл с трудом перевел дух. — Карнавалы не устраивают так поздно. Это просто глупость. Кто пойдет туда?
— Я. — Спокойно сказал Джим из темноты.
И я, подумал Уилл, и представил, как сверкнул нож гильотины, как египетские зеркала разбрасывают веера света, и как дьявольский человек с зеленовато-желтой кожей отхлебывает лаву, словно крепко заваренный чай.
— Эта музыка… — пробормотал Джим. — Орган-каллиопа… Она должна прийти ночью!
— Карнавалы приходят рано утром.
— А как насчет лакрицы и сахарной ваты — помнишь как пахло?
Уилл подумал о звуках и запахах, плывущих по воздушной реке оттуда, где темнели дома, подумал о мистере Тетли, которого слушает лишь деревянный индеец; о мистере Кросетти с его единственной слезой, сверкающей на щеке; о столбе с красной полосой, непрерывно скользящей вокруг и вверх, из небытия к вечности.
Зубы Уилла застучали.
— Пойдем домой.
— А мы уже дома! — удивленно воскликнул Джим.
Оказалось, что они уже подошли к своим домам.
Стоя на крыльце, Джим повернулся и тихо спросил:
— Уилл, ты не сердишься?
— Да нет же, черт возьми!
— Мы не пойдем на ту улицу к тому дому, к театру, еще месяц. Еще год! Я клянусь.
— Верю, Джим, верю.
Они стояли, держась за дверные ручки, и Уилл взглянул на крышу дома Джима, где в холодном свете звезд сверкал громоотвод.
Буря была. Бури не было.
Это не имело значения, он был рад, что Джим установил на коньке крыши это замечательное приспособление.
— Спокойной ночи!
— Спокойной ночи!
Их двери захлопнулись одновременно.
8Уилл отворил дверь и тут же прикрыл ее. Время было позднее, и он старался не шуметь.
— Так-то лучше, — послышался голос мамы.