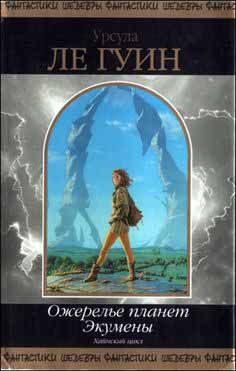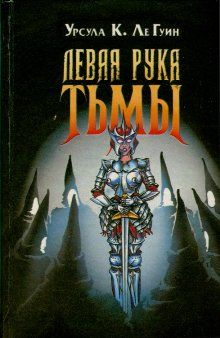Урсула Ле Гуин - Левая рука Тьмы
— Но Экумена никем не правит! Она лишь координирует. Ее власть в каждом из входящих в нее государств и миров ничуть не больше власти их собственных правителей. Просто в союзе с Экуменой Кархайд обретет значительно большую стабильность и авторитет, чем когда-либо.
Некоторое время Эстравен молчал. Сидел, уставившись в огонь, отблески которого играли на его серебряной кружке и широкой светлой цепи у него на груди, обозначающей его ранг. В старом доме царила тишина. За ужином нам прислуживал слуга, но жители Кархайда не знают института рабства или иной личной зависимости и нанимают именно работников, а не людей; так что теперь все слуги, конечно же, разошлись по домам. Придворный такого ранга, как Эстравен, по-моему, должен был бы иметь хоть какую-то охрану, поскольку убийства в Кархайде случаются достаточно часто, но я и раньше не заметил ни одного охранника, и сейчас никого в доме не слышал. Мы явно были одни.
Я остался один на один с существом из иного мира в стенах этого мрачного дворца, в странном заснеженном городе посреди Ледникового Периода, наступившего на чужой мне планете.
Все, что говорил я сегодня и вообще с тех пор, как прибыл на планету Гетен, внезапно показалось мне не просто нелепым, но и немыслимым. Как мог я ожидать, чтобы этот вот человек, впрочем, как и любой другой в этой стране, поверил моим сказочкам об иных мирах, народах, о каком-то малопонятном «добром» правительстве, существующем где-то в черной пустоте космоса? Все это было на редкость глупо. Я прилетел в Кархайд на весьма странном корабле; я действительно по ряду физических признаков существенно отличался от гетенианцев; разумеется, все это следовало как-то объяснить, однако мои собственные разъяснения на этот счет были в достаточной степени абсурдны. Я и сам им не очень-то поверил бы на месте гетенианцев.
— Я вам верю, — сказал мне Эстравен, этот инопланетянин, сидевший прямо передо мной в совершенно пустом доме. И столь велико было в тот миг мое ощущение чужеродности, что я уставился на него в полной растерянности.
— Боюсь, что и Аргавен тоже вам верит. Но не доверяет. Отчасти потому, что больше уже не доверяет мне. Я сделал слишком много ошибок, был слишком беспечен. И не могу настаивать на вашем доверии ко мне хотя бы потому, что из-за меня ваша жизнь оказалась под угрозой. Я забыл, кто такой наш король; забыл, что в самом себе он видит весь Кархайд; забыл, что в нашей стране считается патриотизмом и что сам король уже по положению своему истинный патриот. Позвольте мне спросить вас вот о чем, господин Аи: знаете ли вы, что такое патриотизм, убеждались ли вы в том, что он существует, на собственном опыте?
— Нет, — сказал я, потрясенный до глубины души вдруг открывшейся мне яркой индивидуальностью Эстравена и силой его духа. — Не уверен, что хорошо представляю это себе. Если только не называть патриотизмом просто любовь к родине, ибо это-то чувство мне хорошо знакомо.
— Нет, не любовь к родине я имею в виду. Я имею в виду страх. Боязнь всего иного, чем ты сам, чем то, что окружает тебя. И знаете, страх этот не просто поэтическая метафора, он скорее носит политический характер и проявляется в ненависти, соперничестве, агрессивности. И он растет в нас, этот страх. Растет год за годом. Мы слишком далеко зашли по старой дороге. А вы… вы явились из такого мира, где даже государств уже не существует, причем в течение многих столетий… Вы едва понимаете, о чем я говорю вам, однако именно вы указываете нам новый путь… — Эстравен внезапно умолк: голос его сорвался. Но уже через несколько секунд, полностью овладев собой, он продолжал, как всегда сдержанный и корректный: — Из-за этого страха я и отказался слишком настойчиво защищать ваши идеи перед королем. Во всяком случае, пока. Однако я боюсь не за себя, господин Аи. И мои действия отнюдь не отличаются патриотичностью. В конце концов, на планете Гетен есть и другие государства.
Я понятия не имел, к чему он клонит, но был уверен, что у этих объяснений есть и совсем иной смысл. Из всех темных и загадочных душ, которые встречались мне в этом мрачном, промерзшем городе, душа Эстравена была самой темной и загадочной. Мне не хотелось бродить по бесконечному психологическому лабиринту и играть в прятки с премьер-министром Кархайда. Я не ответил. Но через некоторое время он сам, причем очень осторожно, продолжил начатый разговор:
— Если я правильно вас понял, ваша Экумена главным образом предназначена служению общим интересам человечества. Мы ведь здесь очень различны: у Орготы, например, есть давний опыт подчинения местнических интересов общегосударственным, а у Кархайда такого опыта нет вообще. Да и Комменсалы Оргорейна люди в основном вполне здравомыслящие, хотя и не очень образованные, тогда как король Кархайда не только безумен, но и довольно глуп.
Совершенно очевидно, что должного чинопочитания в Эстравене не было и в помине. Как, видимо, и понятия о верности. С легким отвращением я сказал:
— Если это действительно так, то вам, должно быть, весьма затруднительно служить своему королю.
— Не уверен, что когда-либо ему служил, — ответил королевский премьер-министр. — Или имел таковое намерение. Я никому не служу. Настоящий человек должен отбрасывать свою собственную тень…
Колокола на башне ратуши пробили Час Шестой, полночь, и я, воспользовавшись этим предлогом, извинился и собрался уходить. Когда я в прихожей натягивал теплый плащ, Эстравен сказал:
— На данный момент я проиграл, потому что, как мне кажется, вы теперь из Эренранга уедете… — (Интересно, почему это пришло ему в голову?) — Но я верю, что наступит тот день, когда я снова смогу задавать вам вопросы. Я еще так много хотел бы от вас узнать. Особенно об этой вашей способности говорить с помощью мыслей. Вы ведь едва коснулись общих принципов такого общения…
Его любознательность казалась мне совершенно естественной: этакое бесстыдство сильной личности. Впрочем, его обещания помочь мне тоже выглядели вполне искренними. Я сказал, что конечно, в любой момент, и на этом вечер закончился. Он проводил меня через сад, покрытый тонким слоем снега; в небе светила здешняя луна — большая, равнодушная и рыжая. Меня пробрала дрожь: здорово подморозило.
— Вам холодно? — с вежливым удивлением спросил он. Для него, естественно, это была теплая весенняя ночь.
Я чувствовал себя таким усталым и таким здесь чужим, что сказал:
— Мне холодно с тех пор, как я попал в этот мир.
— Как вы называете этот мир на своем языке? Нашу планету?
— Гетен.
— А на вашем языке у вас разве нет для нее названия?
— Есть. Придумали первые Исследователи. Они назвали эту планету Зима.
Мы остановились у ворот. За решеткой, которой был обнесен сад, смутно вырисовывались в снежной мгле здания и крыши Большого Дворца, кое-где на разной высоте горели в окнах слабые золотистые огоньки, отбрасывая свет на соседние строения. Стоя под невысокой каменной аркой ворот, я непроизвольно взглянул вверх и задумался: не был ли этот замковый камень тоже укреплен по старинке — раствором, замешанным на костях и крови? Эстравен распрощался и повернул назад, к дому: он никогда не был многословен при встречах и прощаниях. Я пошел прочь, скрипя башмаками, по молчаливым дворам и аллеям дворца, по легкому, залитому лунным светом снежку, а потом — по глубоким провалам каменных улиц. Я шагал торопливо, потому что замерз, был потрясен изменой и страдал от неуверенности, одиночества и страха.
Глава 2. В сердце пурги
Лет двести тому назад в Очаге Шатх государства Перинг, что на самой границе страны Диких Ветров, жили-были два брата, которые стали кеммерингами и поклялись друг другу в вечной любви и верности. В те далекие времена, как и сейчас, родные братья могли быть кеммерингами до тех пор, пока один из них не родит ребенка; после этого им надлежало расстаться навсегда. По закону они не имели права клясться друг другу в вечной преданности. Но те два брата дали друг другу такую клятву. Когда стало ясно, что скоро родится ребенок, правитель Шатха приказал братьям расстаться и никогда не встречаться более. Услышав этот приказ, один из братьев-кеммерингов — тот, что носил во чреве дитя, — впав в отчаяние, добыл яду и покончил с собой. После этого обитатели Очага единодушно изгнали его брата из княжества, возложив на него вину за эту смерть. Поскольку стало известно — а слухи всегда обгоняют путника, — что человек этот изгнан из собственного Очага, никто не желал дать ему пристанище и, приютив по закону гостеприимства на три дня, изгоя выставляли за ворота. Так скитался он, пока не понял, что на родной земле не осталось больше для него ни капли доброты в чьем-либо сердце и преступление его[2] никогда не будет прощено. Он не сразу поверил в это, ибо был еще молод и обладал чувствительной душой. Когда же юноша убедился, что это действительно так, то вернулся издалека к родному Очагу и, как подобает изгнаннику, встал у его внешних ворот. И вот что сказал он своей семье: «Для людей я утратил свое лицо: на меня смотрят — и не видят. Я говорю — но меня не слышат. Я прихожу в дом — и не нахожу приюта. У огня не находится для меня места, чтобы я мог согреться, на столе — пищи, чтобы я мог утолить голод, в доме — постели, где я мог бы приклонить голову. Все, что у меня теперь осталось, — это мое имя — Гетерен. И это имя теперь я произношу у ворот вашего Очага как проклятье; я оставляю его здесь, а вместе с ним — свой позор. Сохраните же мое имя и мой позор. А я, безымянный, пойду искать свою смерть». Тут некоторые жители Очага, вознегодовав, хотели наброситься на него и убить, ибо убийство менее позорно для всего рода, чем самоубийство. Но юноша бежал от них; он прошел через всю страну, продвигаясь все дальше на север, к Вечным Льдам. Его преследователи, удрученные неудачной погоней, один за другим возвращались в Шатх. А Гетерен продолжал свой путь и через два дня достиг границ Ледник Перинг[3].