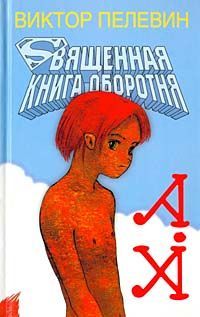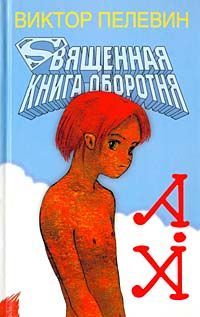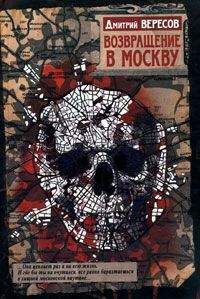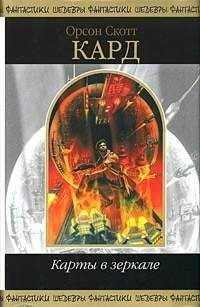Виктор Пелевин - Священная книга оборотня
Даже то немногое, что люди про нас знают, обычно донельзя извращено и опошлено. Например, про лис-оборотней ходят слухи, будто они живут в человеческих могилах. Слыша такое, люди представляют себе кости, зловоние, разложившиеся трупы. И думают — какие, должно быть, мерзкие твари эти лисы, если живут в таком месте… Что-то вроде больших могильных червей.
Это, конечно, заблуждение. Дело в том, что древняя могила была сложным сооружением из нескольких сухих и просторных комнат, солнечный свет в которые попадал через систему бронзовых зеркал (было не очень светло, но для занятий хватало). Такая могила, расположенная вдали от людских жилищ, идеально подходила в качестве дома для существа, равнодушного к мирской суете и склонного к уединенным размышлениям. Сейчас подходящих могил практически не осталось: распаханы плугами, рассечены каналами и дорогами. А в современных загробных коммуналках и самим покойникам тесно.
Но ностальгия до сих пор гонит меня иногда на Востряковское кладбище — просто походить по аллеям, подумать о вечном. Смотришь на кресты и звезды, читаешь фамилии, глядишь на лица с выцветших фотографий и думаешь: сколько понял о жизни Койфер… А сколько Солонян… А сколько поняла о ней чета Ягупольских… Все поняли, кроме самого главного.
И как их, бедных, жаль — ведь главное было так невыразимо близко.
До приезда в Россию я несколько сотен лет прожила в ханьской могиле недалеко от места, где стоял когда-то город Лоян. В могилке было две просторных камеры, в которых сохранились красивые халаты и рубахи, гусли-юй и флейта, масса всякой посуды — в общем, все нужное для хозяйства и скромной жизни. А приближаться к могиле люди боялись, поскольку шел слух, что там живет лютая нечисть. Это было, если отбросить излишнюю эмоциональность оценки, сущей правдой.
В те дни я интенсивно занималась духовными упражнениями и вела общение с несколькими учеными людьми из окрестных деревень (китайские студенты со своими книгами обычно жили в сельской местности, экзамены ездили сдавать в город, а потом, отслужив свой срок чиновником, возвращались в семейный дом). Некоторые из них знали, кто я такая, и докучали мне расспросами о древних временах — правильно ли составлены летописи, нет ли ошибок в хронологии, кто организовал дворцовый переворот три века назад и так далее. Приходилось напрягать память и отвечать, потому что в обмен ученые мужи давали мне старинные тексты, с которыми мне иногда надо было свериться.
Другие, посмелее духом, приходили ко мне в гости поразвратничать среди древних гробов. Китайские художники и поэты ценили уединение с лисой, особенно по пьяной лавочке. А утром любили проснуться в траве у замшелого могильного камня, вскочить и, крича от ужаса, бежать к ближайшему храму с распущенными на ветру волосами. Это было очень красиво — смотришь из-за дерева, смеешься в рукав… А через пару дней приходили опять. Какие тогда жили возвышенные, благородные, тонкие люди! Я и денег с них часто не брала.
Эти идиллические времена пролетели быстро, и от них у меня остались самые хорошие воспоминания. Куда бы меня потом ни бросала жизнь, я всегда слегка тосковала по своей уютной могилке. Поэтому для меня было радостно переселиться в этот лесной уголок. Мне казалось, что вернулись старые дни. Двойная нора, где мы жили, даже планировкой напоминала мое древнее прибежище — правда, комнаты были поменьше, и теперь мои дни проходили не в одиночестве, а с Александром.
Александр освоился на новом месте быстро. Его раны зажили — оказалось достаточно обернуться собакой на ночь. Утром он так и остался ею — отправился на прогулку по оврагу. Я была рада, что он не стесняется этого тела — оно его, похоже, даже развлекало, как новая игрушка. Нравилась ему, видимо, не сама эта форма, а ее устойчивое постоянство: волком он мог быть только короткий промежуток времени, а собакой — сколько угодно.
Больше того, эта черная собака даже могла кое-как говорить — правда, она выговаривала слова очень смешно, и сначала я хохотала до слез. Но Александр не обижался, и вскоре я привыкла. В первые дни он много бегал по лесу — знакомился с окрестностями. Я опасалась, что из-за своих амбиций он может пометить слишком большой кусок леса, но побоялась оскорбить его самолюбие, сказав ему об этом. Да и постоять за себя в случае чего мы могли. «Мы»… Я никак не могла привыкнуть к этому местоимению.
Наверно, потому, что наше жилье напоминало о месте, где я столько лет совершенствовала свой дух, мне захотелось объяснить Александру главное из понятого мною в жизни. Мне следовало хотя бы попробовать — иначе чего стоила моя любовь? Разве я могла бросить его одного в ледяном гламуре этого развивающегося ада, который начинался сразу за кромкой леса? Мне следовало протянуть ему хвост и руку, потому что, кроме меня, этого не сделал бы никто.
Я решила открыть ему сокровенную суть. Для этого требовалось, чтобы он усвоил несколько новых для себя идей — и по ним, как по ступеням, поднялся к высшему. Но разъяснить даже эти начальные истины было трудно.
Дело в том, что слова, которые выражают истину, всем известны — а если нет, их несложно за пять минут найти через Google. Истина же не известна почти никому. Это как картинка «magic eye» — хаотическое переплетение цветных линий и пятен, которое может превратиться в объемное изображение при правильной фокусировке взгляда. Вроде бы все просто, но сфокусировать глаза вместо смотрящего не может даже самый большой его доброжелатель. Истина — как раз такая картинка. Она перед глазами у всех, даже у бесхвостых обезьян. Но очень мало кто ее видит. Зато многие думают, что понимают ее. Это, конечно, чушь — в истине, как и в любви, нечего понимать. А принимают за нее обычно какую-нибудь умственную ветошь.
Однажды я обратила внимание на крохотный серый мешочек, висевший у Александра на груди на такой же серой нитке. Я догадалась, что цвет был подобран в тон волчьей шерсти — чтобы мешочек не был виден, когда он превращался в волка. Но теперь, на черном, он был заметен. Я решила спросить его об этом вечером, когда он будет в благодушном настроении.
Он имел привычку выкуривать перед сном вонючую кубинскую сигару, Montecristo III или Cohiba Siglo IV, я знала названия, потому что бегать за ними приходилось мне. Это было лучшее время для разговора. Если кто не знает, курение приводит к мозговому выбросу допамина — вещества, которое отвечает за ощущение благополучия: курильщик берет это благополучие в долг у своего будущего и превращает его в проблемы со здоровьем. Вечером мы устроились на пороге нашего жилища, и он закурил (дымить внутри я ему не разрешала). Дождавшись, когда сигара сгорит наполовину, я спросила:
— Слушай, а что у тебя в этом мешочке на груди?
— Крест, — сказал он.
— Крест? Ты носишь крест?
Он кивнул.
— А зачем ты его прячешь? Ведь теперь можно.
— Можно-то можно, — сказал он. — Только он мне грудь прожигает, когда превращаюсь.
— Больно?
— Не то чтобы больно. Просто каждый раз паленой шерстью пахнет.
— Хочешь, я тебя мантрочке одной научу, — сказала я. — Тогда никакой крест тебе ничего больше прожигать не будет.
— Ну вот еще. Стану я твои бесовские мантрочки читать, чтобы крест мне грудь не жег. Ты чего, не понимаешь, какой это грех будет?
Я поглядела на него с недоверием.
— Погоди-ка. Ты, может быть, и верующий?
— А то, — сказал он. — Конечно, верующий.
— В смысле православного культурного наследия? Или всерьез?
— Не понимаю такого противопоставления. Это ведь про нас в Священном Писании сказано «Веруют и трепещут». Вот и я — верую и трепещу.
— Но ведь ты оборотень, Саша. Значит, по всем православным понятиям, тебе дорога одна — в ад. Зачем, интересно, ты себе такую веру выбрал, по которой тебе в ад идти надо?
— Веру не выбирают, — сказал он угрюмо. — Как и родину.
— Но ведь религия нужна, чтобы дать надежду на спасение. На что же ты надеешься?
— Что Бог простит мне темные дела.
— И какие же у тебя темные дела?
— Известно какие. Образ Божий потерял. И ты вот…
Я чуть не задохнулась от негодования.
— Значит, ты считаешь меня не самым светлым и чистым, что есть в твоей волчьей жизни, а, наоборот, темным делом, которое тебе искупать придется? Это меня? Тебе, волчина позорный?
Он пожал плечами.
— Я тебя люблю, ты знаешь. Дело не в тебе лично. Просто живем мы с тобой, того…
— Что — того?
Он выпустил клуб дыма.
— Во грехе…
Мой гнев моментально угас. Вместо этого мне стало так весело, как давно уже не было.
— Так, интересно, — сказала я, чувствуя, как по горлу поднимаются пузырьки смеха. — Я, значит, твой грех, да?
— Не ты, — сказал он тихо, — а это…
— Что?
— Хвостоблудие, — сказал он совсем тихо и опустил глаза.