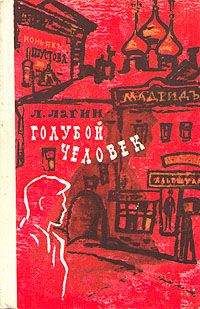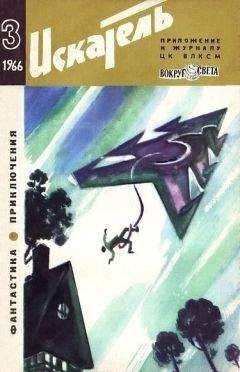Лазарь Лагин - Голубой человек (Художник А. Таран)
Он кинул быстрый взгляд на Розанова. У того губы расползлись в снисходительной и добродушной улыбке.
— Не верите? — воскликнул в отчаянии Антошин, — Думаете, что я вам сказки рассказываю, утешаю развлекаю, так, что ли? Нет, вы скажите, так, да? Да, я хочу, я очень хочу, чтобы вам было утешением в вашей ранней и обидной гибели то, о чем я вам рассказываю, потому что это сущая правда!.. Правда, правда, правда!.. Подумайте сами, может ли все, что я вам расскажу, придумать человек, даже самый гениальный. А ведь я очень обыкновенный, самый наиобыкновеннейший советский человек, обыкновеннейший парень, москвич социалистических шестидесятых годов двадцатого века… Я понимаю, прямых доказательств моих слов у меня нет и быть не может. Я сам ума не приложу, как это все со мною приключилось. Я только помню, что в ночь на Новый год я пошел в кино «Новости дня»… Ах да, ведь вы понятия не имеете еще, что такое кино! Ну, в общем, это нечто вроде театра такого, в котором показываются движущиеся картины, в данном случае это неважно. И вот я выхожу после последнего сеанса во двор, и это вдруг оказывается наш теперешний двор, и я попадаю прямо в мастерскую к Степану Кузьмичу… Нет я вижу по вашему лицу, что я не о том говорю, что надо. Хорошо, у меня нет прямых доказательств, но я вам выложу сколько угодно косвенных. Мало кто знает еще пока в России, когда родился и когда умер Карл Маркс. Хотите, я вам скажу? Он родился в тысяча восемьсот восемнадцатом году в Германии, в городе Трире, а умер одиннадцать лет трму назад в Лондоне. Фридрих Энгельс родился в тысяча восемьсот двадцатом году. Он еще жив… Я могу вам перечислить основные сочинения Маркса: «Капитал» — три тома, «К критике политической экономии», «Гражданская война во Франции», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Нищета философии», глава о политической экономии в «Анти-Дюринге» Фридриха Энгельса… Ой, чуть не забыл про «Коммунистический манифест»! Они его написали вместе с Энгельсом…
— А как он начинается? — прошептал Конопатый, не раскрывая глаз.
— Кто «он»? — «Коммунистический манифест»?
— Пожалуйста!. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Папа и царь, Меттерних и Гиза…» — дальше наизусть не помню, — смутился Антошин.
— А какими словами он кончается?
— «Пролетарию нечего терять, кроме своих цепей, а завоюет он целый мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
— Какие слова! — прошептал Конопатый. — Какие слова!
IV
В меблирашках царила обычная полуденная тишина. Жильцы разбрелись по своим делам. Только в номере напротив, лениво и фальшивя на каждом шагу, тренькал на мандолине господин Колесов, еще не старый мужчина с очень черными, слишком даже черными усами на очень белом испитом лице банщика. Его деловое время приходилось на более поздние часы: он был шулер.
— Сергей Авраамиевич! — продолжал Антошин. — Вы только подумайте: ведь если человек может со всеми подробностями, со всем бытом, со всей его историей описать будущее, совершенно небывалое общество, то такой человек должен быть совершенно исключительным, гениальным мыслителем… А теперь вы посмотрите на меня, хорошенечко посмотрите. Разве я похож на мыслителя, да еще гениального?!
Конопатый слабо усмехнулся.
— Ну, вот видите! — обрадовался Антошин, как если бы он только что выслушал в свой адрес самый лестный комплимент. — Хотите, задавайте мне какие угодно вопросы? Или лучше, может, я вам для начала сам расскажу? Хотите, я вам расскажу про товарища Ленина? — Конопатый недоумевающе глянул на Антошина. Вы его знаете, Сергей Авраамиевич. Тот самый петербуржец, который тогда, на вечеринке у Арбатских ворот, разбил в пух и прах народника «В. В.».
— Умница этот петербуржец! — прошептал Конопатый, снова закрывая глаза. Золотая голова!..
Торопливо, сам себя перебивая, страдая от своего косноязычия, от сознания, что всего не расскажешь, потому что не хватит ни времени, ни знаний, Антошин стал рассказывать Конопатому о Ленине, о партии, которую Ленин создал, об Октябре семнадцатого года, о революциях и великих сдвигах, которые Октябрь вызвал во всем Мире…
Никогда еще Антошин не говорил так долго, и никогда еще он так не боялся момента, когда ему придется перестать говорить.
Конопатый слушал его не перебивая, не задавая вопросов, словно опасаясь вспугнуть и рассеять добрую волшебную сказку. Он лежал, придавленный к тощему тюфячку, жиденьким одеялом, старым своим, студенческим пледом и засаленным полушубком своего удивительного гостя.
Жарко натопленная голландская печка (спасибо Нюрке — доброй душе!) постепенно снова нагрела комнату быстро погружавшуюся в ранние зимние сумерки. Потом окна во флигеле напротив загорелись желтыми закатными огнями, и в комнате стало совсем темно. Антошин засве-тил лампу. Запахло керосином и копотью.
Конопатому стало жарко. Антошин снял с него полушубок и плед. Лицо Конопатого, все в мелких капельках пота, порозовело. А его карие калмыковатые глаза заблестели по-молодому ярко, свежо, как спелые арбузные ко-сточки. Но слушал он, опустив веки, тихий-тихий. И очень важный. Иногда Антошину казалось, что Конопатый заснул. Он замолкал, и тогда умирающий с трудом раскрывал глаза:
— Рассказывай, Егор!.. Ты рассказывай…
Случалось, что Конопатый и в самом деле забывался в коротком сне. Антошин замолкал и терпеливо ждал. Проходило десять- пятнадцать минут, и снова раздавался хрипловатый шепот:
— Рассказывай, Егор!.. Ты рассказывай!.. Когда это случилось в шестой или седьмой раз, Антошин сказал:
— Сергей Авраамиевич, меня всю жизнь звали Юрой. Если вы мне верите, называйте меня Юрой.
— Рассказывай, Юра, — рассказывай! — промолвил Конопатый неожиданно громко и ясно, и тут Антошин, как ни старался держать себя в руках, не выдержал и разрыдался:
— Поверили!.. Наконец-то вы мне поверили!..
— Дай мне твою руку, Юра! — тем же ясным голосом продолжал Конопатый и уже больше так и не выпускал ее из своей гооячей и влажной ладони.
Все чаще и чаще он впадал в забытье. Глаза его то мутнели, то снова становились ясными, живыми, пронзительными. Антошин смотрел в них с тоской и нежностью и никак не мог определить, видит ли его умирающий или нет.
— Дорогой мой друг, Юра, — вдруг очень четко проговорил Конопатый и снова впал в забытье.
Потом наступил момент, когда Антошину показалось, что Конопатый умер. В ужасе и горе застыл он на табуретке, не смея выдернуть руку из полупрозрачной зеленовато-желтой руки Конопатого.
Но Конопатый и на этот раз очнулся. Он что-то прошептал, но так тихо, что Антошину пришлось наклониться к самым его губам.
— Ты петь умеешь? — спросил Конопатый.
— Умею, — оторопел Антошин.
— Спой мне что-нибудь… Самое твое любимое, — прошелестел ему на ухо Конопатый. Это было форменное наитие!
— Хорошо, — сказал Антошин. — Я вам спою… Я вам спою одну из самых моих любимых песен… Про матроса Железняка…
— Про кого, говоришь?
— Про героя гражданской войны матроса Железняка. Он родился… то есть он еще только родится в будущем, в тысяча восемьсот девяносто пятом году, а погибнет в тысяча девятьсот девятнадцатом… Про него наш народ поет песню.
— Молодой какой! — прошептал Конопатый, жалея Железняка.
«Верит!.. Верит! — ликовал в душе Антошин. — А услышит песню, окончательно убедится. Не могу же я, кроме всего прочего, еще и песни придумывать, и музыку к ним!»
Он откашлялся и вполголоса начал:
В степи под Херсоном высокие травы,
В степи под Херсоном курган.
Лежит под курганом, поросшим бурьяном,
Матрос Железняк — партизан…
За окном леденели январские сумерки. На Большой Бронной не то двое, не то трое пьяных не в лад орали истошными голосами: «Она… моя… хоро-шая… забыла… про… меня…»
В номере напротив господин Колесов все еще не потерял надежду правильно сыграть: «От бутылки вина не болит голова». Меблирашкй были полны обычных вечерних шумов. Хлопали двери: глухо — наружные, обитые войлоком, звонко внутренние. Шаркали ноги. Шипели самовары, которые, часто постукивая каблуками, быстро проносила жильцам Нюрка. В соседнем номере упившийся студент Храмов капризно бубнил: «Хочу килек!.. Ки-и-илек хочу!» И кто-то его сурово успокаивал: «Будут киль-ки… Будуттебе кильки!.. Спи!..»
От волнения Антошина трясло. К горлу его подкатился клубок, и Конопатый это почувствовал.
— Ты меня не жалей, Юра, — произнес он снова неожиданно громко и четко. Я очень счастлив… Ты, Юра, пой. Красивая песня!..
Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону,
продолжал Антошин, не замечая, что поет уже во весь голос…
В засаду попался отряд,
Налево застава, махновцы направо,
И Десять осталось гранат…
Он пел, не отрывая глаз от Конопатого. Конопатый лежал, плотно закрыв веки. Челюсти были стиснуты крепко, как у солдата, который вот-вот выйдет в атаку. Антошин смотрел на Конопатого, пел и не знал, что теперь уже весь коридор, все жильцы, и Нюрка, и кухонный мужик Василий притихли, слушая незнакомую, печальную, суровую и благородную песню о геройской жизни и гибели человека, который еще не родился, песню, которую будут когда-то петь их более счастливые сыновья и внуки.