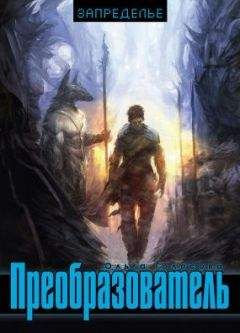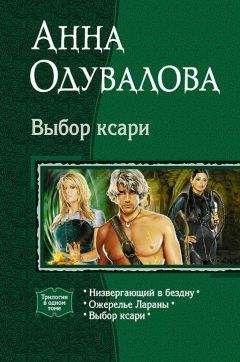Ольга Голосова - Преобразователь
— Кретины! Но в общем, суть уловили верно, — Анна в раздражении отбросила газету и закурила вонючую черную сигариллу. Петя обиженно поморщился и помахал в воздухе ладошкой.
— Анна, нам надо спасать Сергея, надо что-то делать, мы не можем вот так просто сидеть. Его ведь могут убить.
— Это ты верно сказал, просто золотые слова, которые следует нацарапать золотыми иголками в уголках глаз, как выразилась бы достопочтенная Шахерезада. Только раскинь мозгами, Петюня, что ты будешь делать? Дашь объявление в газете: «Пропал мужчина в расцвете сил»? «Если вы увидите, что кто-то превращается из человека в крысу и обратно, срочно звоните по телефону 322—223 в редакцию газеты “Магизм и единобожие”»? Мы сами едва успели свалить из отеля. Ты хочешь, чтобы и нас накрыли? Пока мы свободны, у Чернова развязаны руки — его нельзя шантажировать. Убить его не убьют — он же ходячее состояние, прорыв в науке. Ну, помучают несильно и начнут волынку тянуть. Завещание у них, но что-то мне подсказывает, что ни хрена они не обойдутся без Чернова. Я своего папочку знаю, — Анна усмехнулась и стряхнула пепел в бронзовую курильницу. — Гораздо больше меня волнует наше с тобой положение. Пользоваться гостеприимством моих родственников весьма опасно: они сами нас продадут в любой момент. Цыгане все-таки. Посему надо валить.
— Но куда?
— Вот над этим вопросом, мой юный наблюдатель, я сейчас и размышляю. И учти, солнышко, у нас с тобой только временное перемирие — войны никто не отменял. Анна улыбнулась, сверкнув жемчугом зубов, и Петя покраснел.
Штора, отделяющая комнатку от коридора, колыхнулась, и через секунду на пороге возникла цыганка, одетая в ярко-розовую рубаху, расшитую по вороту и манжетам золотой нитью. В руках у нее был поднос с медным кофейником и маленькими фарфоровыми чашечками без ручек. Она робко улыбнулась, с поклоном поставила чеканный поднос на низенький резной столик и что-то спросила у Анны по-цыгански. Та милостиво кивнула в ответ и потрепала девушку по щеке:
— Это моя младшая племянница. Спрашивает, не хочешь ли ты поесть или, может, подать тебе сладостей. Я ответила, что ты обойдешься. Среда все-таки.
— Сладости — это постное! — возмущенно вскричал семинарист-экстремал.
— Имея 52-й размер брюк, надо питаться акридами и водой. Хватит жрать, тем более через час будет плов. Обед то есть.
Анна жестом отослала девушку и сама разлила густой кофе с жирной коричневой пенкой.
Петя подумал, что никогда еще не встречал такой противной особы с замашками царицы Савской, и вздохнул.
С детства он привык анализировать свои чувства и поступки, и после долгих размышлений решил, что Анна нравится ему совсем не так, как девушки с иконописного или регентского отделений семинарии, среди которых семинаристы обычно подбирали себе невест. Собственно, никто и не обязывал его питать нежные чувства к девицам с косами и полуопущенными глазами, а кошмарило его от того, что нравилась ему в Анне именно ее непохожесть на этот идеологически выверенный канон. Ему нравились ее грубая подозрительность и желчная речь, черные глаза и хамские замашки, сигарета в уголке ярких губ и восточные скулы, наконец, ее чудовищная, звериная воля к жизни. Да, вот это ему и нравилось больше всего. Жизни, жизни не было в полевых цветочках среднерусской возвышенности. Петя тайком посмотрел на Анну и невольно залюбовался ее чистым, будто выведенным рукой гравера, профилем. Отец бы понял его. Мама Пети была бойкой на язык «западенкой», которую Петин отец, заканчивая семинарию, нашел в пельменной на Ярославском вокзале. Галя мыла там посуду, острым хохляцким языком ловко отбривая незадачливых ухажеров. Да, отец бы его понял. А ректор и братья? Петя содрогнулся, представив себе выражение лица старшего, во епископстве Илиодора. Брат был расчетлив и стремительно непреклонен, как военный фрегат, идущий по курсу. Петя подозревал, что в глубине души бывший Павел глубоко презирает своего тетеху-младшенького. Петя вздохнул в третий или четвертый раз и снова посмотрел на Анну. Она была прекрасна, как только может быть прекрасен шедевр, вышедший из-под Божией руки. Глядя на нее, ему верилось, что Божий мир несмотря ни на что красив и красота создана как раз для его, мира то есть, утешения.
Анна неожиданно обернулась, и глаза их встретились. Петя собрался с духом и не отвел взгляд. Анна тоже не собиралась этого делать. Так они и смотрели друг на друга, пока Петя не сообразил, что ему хорошо.
— Пожалуй, ты не самый худший вариант, — вдруг сказала она и улыбнулась. — Я в смысле наблюдателей.
В горле у Пети что-то сжалось. Он отвернулся. Конечно, он понимал, что Анна — женщина из совсем другого мира. Ну и пусть. Значит, ему вообще не надо никаких женщин.
— Знаешь, — вдруг к собственному удивлению произнес он, — я никогда не любил фильм «Безымянная звезда». Он всегда казался мне слишком нарочитым, слишком вымученным. А теперь вдруг я понял, о чем он. Петя улыбнулся самому себе и снова отвернулся.
— Ты хочешь, чтобы меня зазвездило? — Анна улыбнулась и снова потянулась за сигаретой.
— Нет, боюсь, что зазвездило меня, — произнеся первый в своей жизни каламбур, Петя от удивления смолк и залпом опрокинул в себя остывший кофе.
В комнате повисло неловкое молчание, которое спустя пару минут прервала Анна. Она пересела к нему на подушки и зашептала прямо ему в ухо:
— Слушай. Сегодня поздно вечером нам надо уходить отсюда. У меня здесь был верный человек — он работал сторожем у отца. Он не из цыган, он из местных. Мой отец когда-то вылечил его сына, и он был предан ему как собака. Отец вообще умел вызывать преданность, — Анна усмехнулась, и в ее усмешке Пете почудилось… наверное, все-таки почудилось.
— Я знаю, где он живет. Ты наденешь мои тряпки и замотаешь платком лицо. Дебильненько, конечно, но за бабу сойдешь. Мы выйдем из задней калитки, когда мужчины будут ужинать во дворе. Конечно, они узнают, что мы ушли, но не узнают куда. По крайней мере, не сразу узнают.
— Я не хочу надевать платье.
— Петенька, голубчик, пожалей Чернова и нас с тобой в придачу. Нам надо заметать следы, выражаясь языком бульварных романов. В конце концов, даже Шерлок Холмс переодевался в женщину, когда прятался от Мориарти.
Но и сравнение с Холмсом не уняло Петиных страданий. Он с ужасом представил себя в узбекском национальном костюме и почувствовал бешеную ненависть к себе. «Тюфяк в полосочку, вылитый матрас, — припечатывал себя Петя, розовея от собственной неуклюжести. — Толстый дурак, который меньше всего похож на опору попавшей в беду женщины, а больше всего — на арбуз».
Вслух же он произнес:
— Хорошо… Анна. Сделаем, как ты скажешь, в конце концов, у тебя больше опыта в таких вопросах, — он впервые назвал ее по имени вслух, и имя это отозвалось в нем сладкой горечью.
— Вот и умница, — Анна взъерошила ему волосы на затылке и пересела обратно в кресло.
— Кстати, — произнесла она абсолютно невинным тоном, — мне пришлось представить тебя как своего мужа. Иначе бы меня забили камнями прямо во дворе.
— Господи, помилуй! — вырвалось откуда-то из самых недр Петиной души.
Глава 18
В духе ориентализма
Мне повезло, что я не перекинулся под бетонными обломками. Даже не представляю, во что бы я превратился… как меня сплющило бы под грудой огромных блоков. Но повезло — значит повезло. Правда, все в этом мире относительно: оказаться голым посреди пустыни или как там это называется — тоже противно. Как мне кажется, во всем виноват арык, вырытый неподалеку от селения, мирно орошавший небольшой островок зелени, где жизнь била ключом. Наверное, я позарился на воду и запахи и как вполне нормальное животное двинулся в сторону воды и пищи. Того и другого здесь было навалом — странно, что меня не съели собаки и не порвали собственные соплеменники. Впрочем, что происходило со мной, пока я был животным, мне неведомо. И даже страшно представить, например, чем я ужинал. Бр-р-р.
Итак, абсолютно голый, поджав под себя ноги, я сидел на утреннем холодке возле раскидистого ореха и разглядывал ближайший ко мне дом. Мне очень хотелось, чтобы какая-нибудь нерадивая хозяйка забыла на веревке постиранные накануне штаны и рубаху, а также обувь подходящего размера. Но чудеса — вещь по большей части непрошенная и непредсказуемая, что и вызывает у многих сомнение в их целесообразности для человеческой жизни.
М-да. Человеческой, Сережа, а ты у нас представитель другого вида. И не надо лукавить, будто я прям совсем ничего и не помню. Руки-головы я отрывал вполне сознательно и даже не без некоторого удовольствия. Вот сиди теперь, Сережа, голый на жесткой траве и, трясясь от холода, думай, что тебе делать дальше. Как жить, Сережа?