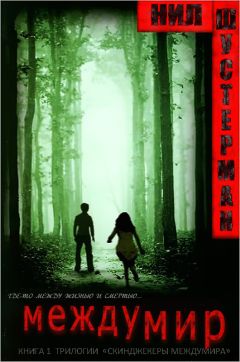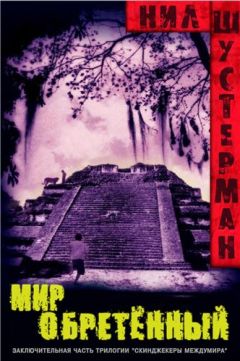Мервин Пик - Титус Гроан
Галантность Стирпайка на миг согрела ей сердце.
Теперь сидели уже все трое. Доктор выпил, пожалуй, больше, чем мог бы порекомендовать пациенту. Когда он говорил, руки его привольно порхали, казалось, он наслаждается, следя за своими пальцами, пантомимически подчеркивавшими смысл его речей.
И на сестру его тоже уже подействовал портвейн, выпитый ею в количествах, превышавших привычную квоту. При всяком слове Стирпайка она резко кивала, как бы полностью с ним соглашаясь.
– Альфред, – сказала она. – Альфред, я к тебе обращаюсь. Ты меня слышишь? Слышишь? Слышишь?
– Весьма отчетливо, Ирма, моя дорогая, моя чрезвычайно дорогая сестра. Голос твой звенит в моем среднем ухе. Строго говоря, он звенит в них обоих. В самой середине обоих ушей или, вернее, в обоих самых что ни на есть средних ушах. Что ты, плоть от плоти моей?
– Мы оденем его в светло-серое, – сказала Ирма.
– Кого, кровь от крови моей? – вскричал Прюнскваллор. – Кого предстоит нам с тобой облечь в тона голубиные?
– Кого? Как ты можешь спрашивать «кого»? Вот этого юношу, Альфред, вот этого юношу. Он поступает на место Таблета. Таблета я завтра уволю. Таблет всегда был слишком медлителен и неуклюж. Ты так не думаешь? Ты так не думаешь?
– Все это лежит далеко за пределами моего мыслительного кругозора, о кость от кости моей. Далеко-далеко. Я вручил бразды правления тебе, Ирма. Так что – по коням и вперед. Мир заждался тебя.
Стирпайк понял, что пришло его время.
– Я уверен, дорогая госпожа, что вы останетесь мною довольны, – сказал он. – Моей же наградой будет возможность увидеть вас, если вы мне позволите, еще раз или, быть может, два в этом темном платье, которое столь вам к лицу. Пятнышко, замеченное мной на самом его подоле, я выведу завтра утром. Мадам, – прибавил Стирпайк с простотой, составившей разительный контраст прежней его велеречивости, – где я буду спать?
Поднявшись на ноги с чопорным, отчасти скованным достоинством – манера, которой Ирма Прюнскваллор несколько времени тому решила покамест придерживаться, – на редкость деревянным жестом она приказала Стирпайку следовать за нею и направилась к двери.
Где-то в склепах ее груди тонко запела плененная птичка.
– Ты уходишь на веки вечные? – крикнул Доктор из кресла, по которому он раскинулся, точно обрывок веревки. – Покидаешь меня навсегда, ха-ха-ха! на всю оставшуюся жизнь?
– На эту ночь, определенно, – ответил голос его сестры. – Господин Стирпайк заглянет к тебе поутру.
Доктор зевнул, в последний за этот вечер раз блеснув зубами, и скоро уже крепко спал.
Госпожа Прюнскваллор привела Стирпайка к двери комнаты, расположенной в третьем этаже. Комната оказалась простой, просторной и уютной.
– Зайдите утром ко мне, я ознакомлю вас с вашими обязанностями. Вы слушаете? Вы слушаете?
– С великим наслаждением, мадам.
Возвращение к двери стоило ей немалых трудов, ибо она давно уже не предпринимала таких усилий для того, чтобы поступь ее выглядела привлекательной. Черный шелк ее платья мерцал в свете свечи, посвистывал в коленях. Достигнув двери, она обернулась, и Стирпайк поклонился – и не поднимал головы, пока дверь не закрылась, отделив его от новой хозяйки.
Стремительно переместившись к окну, Стирпайк распахнул его. За простором двора смутно вздымались в ночи гористые очертания замка Горменгаст. Прохладный воздух овеял большой, выступающий лоб Стирпайка. Лицо его оставалось подобным маске, но где-то в сокровенной глуби юноши, быть может, в желудке, затаилась усмешка.
ПОКА ДРЕМЛЕТ СТАРАЯ НЯНЯ
На какое-то время нам можно оставить Стирпайка у Прюнскваллоров, в домашнем хозяйстве которых он успел уже основательно утвердиться в довольно извилистом качестве прислуги за все, аптечного подмастерья, компаньона и собеседника хозяйки. День за днем вкрадчивые манеры юноши производили свое коварное воздействие, пока все не стали воспринимать его как составную часть ménage[10], и только повар, который, подобно всякому старому слуге, не питал приязни к выскочкам, относился к нему с нескрываемой подозрительностью.
Доктор обнаружил в юноше способность схватывать все новое на лету, и уже по прошествии нескольких недель Стирпайк стал полновластным распорядителем его бесплатной аптеки. Химикалии и медикаменты сильно влекли к себе молодого человека, и он нередко приготовлял сложные смеси собственного изобретения.
О компрометирующих и трагических обстоятельствах, проистекших из всего этого, говорить покамест не время.
В самом же замке всякий день совершались освященные временем ритуалы. Волнение, вызванное рождением Титуса, несколько улеглось. Графиня, вопреки предостережениям ее консультирующего врача, поднялась, как и обещала, на ноги. Правда, поначалу она испытывала изрядную слабость, однако раздражение, вызываемое в Графине невозможностью встречать, по усвоенной ею привычке, утреннюю зарю, плывя в приливной волне белых котов, было столь могучим, что позволило ей одолеть телесное утомление и вялость.
Три утра, прошедших после того, как она разрешилась маленьким Титусом, Графиня пролежала в постели, слушая, как коты зовут ее на лужайку, раскинувшуюся шестьюдесятью футами ниже, и душа ее устремлялась к ним из залитой сияньем свечей комнаты с такой силой, что капли пота выступали на коже тоскующей по утраченным силам Графини.
Не будь с нею птиц, эта душевная мука определенно могла бы причинить ей вред пущий, нежели физическое напряжение, связанное с преждевременным вставанием. Постоянно меняющаяся популяция ее пернатых детей стала для нее в те дни, казавшиеся ей месяцами, истинным утешением.
Чаще всего к ней являлся через задушенное плющом окно белый грач, даром что до заточения Графини он был самым ненадежным из ее визитеров.
Глубоким голосом она вела с ним беседы, иногда часовые, называя его «господином Альбастром» и «нечестивцем». Да и все прежние друзья-товарищи Графини собирались теперь у нее. Временами спальню наполняло их пение. Временами, ощутив потребность размять в небе крылья, все они, один за другим выскальзывали в заросшее окно, и по дюжине птиц за раз парили, поднимаясь и опускаясь, трепеща разноцветными крыльями в окружавшем оконницу мглистом воздухе, ожидая своей очереди протиснуться наружу.
Оттого и случалось, что время от времени она чувствовала себя почти покинутой. Однажды раз только черноголовый чекан да чумичка-сова и остались при ней.
Но теперь ей уже хватало сил, чтобы прогуливаться и смотреть, как птицы ее кружат в небе, или, сидя в замыкавшем длинную лужайку павильоне, с солнечным светом, курящимся в ее темно-красных волосах и несмело ложащимся на лицо и на шею, следить за обилием снежно-белых переливов своих котов.
Что до госпожи Шлакк, то она во все большей и большей мере впадала в зависимость от помогавшей ей Киды. Признаваться в этом себе ей не хотелось. В Киде присутствовала некая странная немота, старушке непонятная. Время от времени няня предпринимала попытки внушить девушке почтение к власти, которой на деле она не обладала, да и помимо того, госпожа Шлакк вечно была настороже, вечно пыталась отыскать в Киде хоть какой-нибудь недостаток. Однако все потуги ее были столь очевидны и трогательны, что нисколько не докучали девушке из Нечистых Жилищ. Кида знала – через час с небольшим, когда госпожа Шлакк решит, что в достаточной мере упрочила свое положение, она прибежит, почти плача из-за какого-нибудь пустяка, и уткнется трясущейся головкой в плечо своей служанки.
Как ни привязалась Кида к Титусу, которого она кормила грудью и о котором нежно пеклась, ей становилось ясно, что пора возвращаться в Нечистые Жилища. Кида покинула их с внезапностью, с какой человек, ощутивший вдруг зов Провидения, покидает прежнюю жизнь и уходит в другую. Теперь же молодая женщина сознавала совершенную ею ошибку – и сознавала, что, оставаясь в замке дольше, чем то необходимо для младенца, она впадает в новую ложь.
День за днем смотрела она в окно комнатки, отведенной ей рядом с жильем госпожи Шлакк, смотрела туда, где высокая замковая стена заслоняла Жилища, которые Кида знала с младенческих лет и в которых за последний год страсти ее всколыхнулись столь грубо.
Недавно похороненное ею дитя было сыном старого резчика, считавшегося среди Внешних мастером непревзойденным. Замужество навязал ей железный закон. Ваятели, единодушно признаваемые превосходящими всех остальных, могли, по достижении пятидесятилетнего возраста, выбрать себе в жены любую девушку и даже тени протеста против их выбора законом не допускалось. Этот обычай, существовавший с времен незапамятных, не оставил Киде иного выбора, кроме супружества с диковатым, гневливым стариком, переполненным, впрочем, не по годам кипучей энергией.
С раннего утра и до часа, когда меркнул свет, он занимался одной лишь резьбой. Он вглядывался в свою работу под всевозможными углами, отступая от нее, щуря глаза от солнца, он приседал на корточки и сидел, созерцая ее. Затем подбирался к ней, словно изготовясь наброситься на статую, как хищник набрасывается на обездвиженную страхом добычу, но, приблизясь к деревянной фигуре, оглаживал ее широкой ладонью, будто любовник, ласкающий груди возлюбленной.