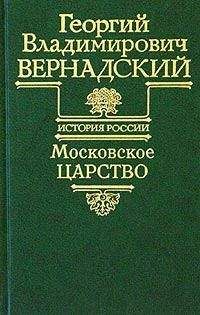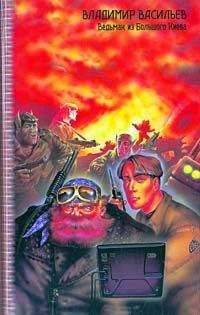Виталий Амутных - ...ское царство
Бездушный механический голос наполняет гигантский объем терминала:
— Внимание! Совершил посадку рейс 4653 из Берлина воздушной компании «Люфтганза». Просьба встречающим…
— Слышишь, из Берлина прилетел. Ой, когда уже наш? Когда регистрация?
Широко белозубо улыбаясь Дэвид кладет свою руку на плечо Наташе. Их лица сближаются. Они смотрят друг другу в глаза.
— Моя ко-ро-ле-ва, всего немного минут, — и мы поднимаемся небеса.
Настя косится на них, отворачивается и еще больше съеживается.
— Несколько дней мы будем Москва. Посольство, делопроизводство. Как это у вас говорят? Совдеп, да? Мы должны немного совдеп, и потом летаем домой.
— В Сидней? — от избытка чувств почти вскрикивает Наташа.
— Сначала Сидней. Но жить мы будем другой небольшой город.
— Да-а? Не в Сиднее… — с грустью пропевает Наташа. — Ну и ничего! — тут же взбадривает она сама себя собственными фантазиями: — В Сидней всегда можно приехать. И в Ньюкасл. Я карту купила. Или хотя бы в Аделаиду, да?
Вдруг она резко разворачивается к дочери.
— Настюха, ну, что ты сидишь как замороженная? Мы в Австралию с тобой едем! Представляешь, в Австралию! Ты там… ты… Кенгуру увидишь! Правда, Дэвид, там же живут кенгуру?
— О, там очень много кенгуру. Очень много.
— Вот видишь Настя, кенгуру. И еще эти… как их, мишки плюшевые…
— Коала, — подсказывает «австралиец».
— Во-во! Коала! Да ты что, Настя, ты там будешь жить, как… как… в зоопарке! Очень весело!
Мать принимается, лаская, трепать плечико дочери, но та отстраняется.
— Ну какая ты бука! Как хочешь, можешь сидеть как снежная баба.
Она поворачивается к Дэвиду, но тут же возвращается к дочери:
— Как ты не поймешь, что все это я делаю для тебя. Чтобы ты выросла в нормальном обществе. Чтобы у тебя было будущее. Ты же потом мне спасибо скажешь. А папа потом к нам еще в гости приедет. Правильно, Дэвид?
— О, конечно. Каждый день. Вау! Я имею сказать: каждый год.
— Дэвид, какой ты благородный! Какой ты умный! — ее лицо вновь возле его лица. — Боже, за что мне судьба послала такое счастье!
Они сливаются в поцелуе, и Настя встает со своего места. Личико ее переполнено отчаянием. Она оглядывается по сторонам и вновь садится на самый краешек своего кресла.
— Дэвид, дорогой мой, ты фантастический мужчина… — шепчет разомлевшая Наташа.
— Good heavens, when will I manage to get rid of you? — лаская ее любовным взглядом, нежно молвит ей фантастический мужчина. — Why have you got such silly eyes? Why have you got such big teeth, field mouse?
— Твои слова звучат, словно музыка. Что ты говоришь, милый?
— Я хочу говорить, что ты очень прекрасная леди. Настоящая леди в мое сердце. But, if you ever know, how I’m fed with you!
— Боже! Иногда мне кажется, что мы одно целое!..
Дэвид заводит взгляд под потолок и затягивает протяжным сладким голосом:
A bear and bunny
Had plenty of money.
They went to the store
For carrots and honey.
When the bear and the bunny
Asked: «Carrots and hanny!»
The man in the store
Cried: «Where is your money?»
How strange, and how fanny!
They really had money —
And that’s how they bought
Their carrots and honey!
— Это стихи… Мне так давно никто не читал стихов!.. Кто же поэт?
— Это есть сонет by Shakespeare.
— Про любовь?..
— Да. Большая любовь.
Настя вновь встает со своего места и внимание матери переключается на нее.
— Ну, что тебе неймется?! — взмахивает руками Наташа, хватает дочь и не без некоторого насилия усаживает ее себе на колени. — Ну, что ты никак с Дэвидом не подружишься? Настенька, он очень тебя любит, очень!
Видимо, в подтверждение этих слов Дэвид обнажает белоснежные зубы в широкой улыбке, достает из пиджачного кармана шоколадный батончик, заготовленный, надо думать, заранее, и, протягивая его девочке, говорит, медово присюсюкивая:
— Моя маленькая принцесса, что ты не желаешь давать мне улыбка? Что ты так серьезная девочка? Пожалуйста, возьми этот сладкий шоколадка…
Он тянет к ней руку с конфетой, — и тут девочка начинает дрожать всем телом, точно ее охватывает ужасный озноб. Дрожат ее плечики, дрожат губы…
— Мама… Мамочка! — и слезы потоком изливаются из ее ужасом распахнутых глаз. — Мамочка, дорогая моя, пойдем домой! Пойдем уже. Пойдем к папе…
А папа тем временем сидит вовсе не дома, а в роскошной гостиной (одной из гостиных) Розы Цинципердт ультрасовременного, как говорят, авангардного дизайна, отчасти напоминающей интерьер звездолета из фантастического фильма, отчасти — оснащенную по последнему слову техники операционную. Ибо все вокруг, — и мебель, и стены, и пол с потолком, и окна-иллюминаторы, — слажено из травленого стекла, серебристого пластика, крытых никелем металлических трубок и рифленого алюминия. На зеркально отсвечивающих серых стенах, щедро оснащенных разнокалиберными светильниками в виде невероятных индикаторов и табло, голографические изображения каких-то небывалых существ в тускло мерцающих кварцевых рамочках.
Гариф Амиров восседает в кресле, надо быть, командира корабля, заваленный со всех сторон фотоальбомами вовсе не космического облика. Альбомы громоздятся горами на расположенных рядом с ним предметах мебели неизвестного назначения, на его коленях и даже на стеклянном, подсвеченном снизу, полу. Некоторые из них раскрыты, и в каждом точно размноженная призмой калейдоскопа Роза Цинципердт в таких, сяких и эдаких видах.
В комнате он один.
По отсутствующему выражению лица, с каким гость рассматривает нескончаемую галерею Розиных портретов, можно судить, что вернисаж не слишком захватывает его; а измятая поза подсказывает: заперт Гариф в этой космической мышеловке уже давно. Он зевает, потягивается, — альбомы с грохотом сыплются с его колен на стеклянный пол, брезжащий мистическим фиолетовым светом. И в этот момент слышится пронзительный взбешенный голос Розы, а следом — приглушенный кудахчущий баритональный хор. Тотчас эллипсовидная входная дверь беззвучно скрывается в стене, и в комнату решительной слоновьей поступью вваливается Роза.
— Я всех вас кастрирую! — кричит, вернее, визжит она. — Я вас назад в Бердичев запру, и вы тогда у меня…
Она стремительно, насколько то позволяет ей особенная конституция, несется по комнате, а ее поджавшая хвосты свора, боязливо поскуливая, комично топчется в нерешительности у входа, не отваживаясь переступить порог. Но вот Роза замечает спешно поднимающего с пола упавшие фотоальбомы Гарифа. Некоторое время она непонимающе таращится на него своими маленькими близорукими глазками, словно силясь припомнить прозвание этого человека и как он вообще тут оказался. Полминуты невразумительного молчания, — и вид Гарифа действует на нее, как успокоительная таблетка.
— Идите, думайте, — взмахивает она жирной лапой в сторону притихших сподвижников, и, нажав на кнопку находящегося в руке пульта дистанционного управления, закрывает перед ними дверь.
— Какой сегодня тяжелый день! Какой тяжелый! — уже на излете лихорадки слабо восклицает Роза. — Гарик, если бы ты знал, сколько они у меня крови выпивают! А сами-то ослы, ослы безмозглые. Ничего без меня сделать не могут…
Она подходит к какому-то предмету мебели, совмещающем в себе черты дивана, шкафа и внутренностей электронного аппарата, и валится на него.
— Устала… — пищит толстуха, и то подтверждает испарина на лице и тяжелое дыхание ее. — Гарик, иди, сядь со мной.
Гариф какое-то время воюет с полчищем непослушных фотоальбомов, то и знай изощряющихся вывернуться из его рук, и наконец перебирается к Розе. Она обхватывает его шею своей немалой рукой и склоняет шишкообразную голову (из-под лака гладкой прически выбилось несколько рыжих прядей) к его плечу.
— Ты так долго ждал меня… — одной рукой она меланхолично треплет колено Гарифа. — Ждал?
— Что же мне оставалось?
— Ничего, скоро у нас с тобой будет много свободного времени. И, поверь, я знаю, как его провести со вкусом. Мы не будем расставаться ни на минуту, да?
Гариф посматривает по сторонам, точно ему не хватило времени досконально изучить обстановку.