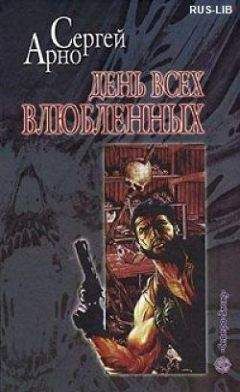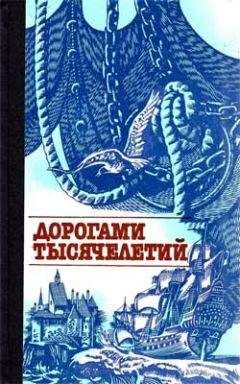Федор Метлицкий - Остров гуннов
– Мой дом – моя крепость! – бросил мимоходом купец, разделывая пальцами курицу. Видно, эта поговорка была здесь еще свежей. Либерал снисходительно сказал:
– Достаточно установленной морали и этики, чтобы навести порядок и избегать насилия.
– Мораль и этика – установка разума, но в ауре божественной любви они исчезают. Или – все делается моралью и этикой.
– Бог е справедлив, – елейно сказал Летописец.
– Бог – это беспредельность. Человек должен был выдумать символ беспредельности. Метафора покрывает своей интуицией незнание глубинного устройства мироздания.
– Богохульство! – слышалось в разноголосице обедающих нобилей. – Бог – не е символ!
Я даже испугался отпора.
– Здесь есть веротерпимость – старики поклоняются Священному Пню, другие – дохристианскому жестокому Господу Мира или, как некоторые из вас – некоему Абсолюту, создавшему гармоничную вселенную. У нас же есть христианская религия. Я верю в Иисуса – гениального пророка, угадавшего нравственную тенденцию истории, правда, не в его инкарнацию.
– Но ти абсолютно отрицаешь веру! – удивился Летописец.
Я подумал.
– Чего ожидают простые бабки, толпясь в очереди во дворе храма, чтобы прикоснуться к Священному Пню? Непостижимого, чуда, которое вывалит им в подол исцеление. То есть, хотят того же, что и я. Куда зовет душа, чтобы исцелиться? С древности чувствовали – стать подобием божьим значит подняться до небес на невообразимой исцеляющей волне. Где исчезли бы все обозначения наших отношений: счастье, обида на несправедливость, негодование и т. п. И осталось бы чувство бесконечной новизны и безграничная близость мира, где рождаются музыка, стихи и другие творения мозга и рук. Только я вижу на месте Бога сияющий горизонт необъятной новизны, что дает надежду творить нечто небывалое, но не ищу там божьей помощи. Хочу того света, что блеснул мне в детстве, поразил на всю жизнь.
– Ага, ти веруешь в нашия Бога – Демиурга, който создал вселенную, кого не може да помыслить! – возвысил тонкий голосок Летописец. – Просто не веруешь в его всемогущество.
Я чувствовал, что не все потеряно.
– Выйти из дурного круговорота вражды всех ко всем можно только путем познания и совершенствования себя и мира, свойственного личности. Чтобы понять, что происходит, надо разобраться, что происходит внутри человека. Это попытка выйти из сна разума. Достижение озарения, гармонии мира – это выход мира из отпадения в Божественное совершенство.
– В этом – весь Будда, – наконец, высказался Савел.
Купец перестал есть.
– И вие учите этому… копаться в себе?
– Мы учим понимать мир.
Он обратился ко всем, бегая глазами.
– Там няма даже экзаменов. А необходимо – с розгами!
Я вспомнил отца, поровшего меня, зажав голову между колен. Что-то родное было в словах купца.
– Защо вие заблуждаетесь? – возбуждал себя Купец. – Такова ересь не е за нас. Только найдете на ваш задник приключения. И школяры – без розог разбегутся.
Либерал благодушно спросил Купца:
– Ты веришь, что есть свет и тьма?
– Веруем, что добро – това е строить. И всичко будет добре. Няма нищо другого.
Савел торжествующе сказал:
– Это и есть наш социальный проект – строить для богатых, которые дают больше денег, и драть три шкуры с бедных. А если кто не желает – пусть идет в ж…
Купец боялся ведущего «позоров» – мог высмеять в очередном зрелище живых теней. Как высмеял его мечту о белой яхте, о которой он по-детски простодушно рассказал на таком вечере. Как она унесет его в безграничные просторы наслаждений, тут же бесплатно исполняющихся, с девочками в каюте, с кем делал что хотел (фу! зачем трепался, – заныло, как зубная боль). Это видение заливало его другие мысли цветным туманом, так что терял контроль перед завистниками.
Уходя, Эдик, отплевываясь, спросил меня:
– С кем ты водишься?
– В них глубоко запрятано добро. Ты же говоришь: человек по природе добр.
Знающий состояние наших дел Савел говорил своим новым сочувственным тоном, похожим на иронию:
– Направься в мир покоя и радости и возродись там в цветке лотоса на сиденье из драгоценностей.
Наверно, пристрастие к даосизму было оправданием его безразличия к конвульсиям власти и оппозиции. Выбор, который он называл Путем Дао, отвечал его внутренней честности – он стремился туда, где комфортнее.
Я не говорил ему – на родине, на своем краю земли изучал «уловки» школы Тэндай в познании Дао.
– Это удобно – сидеть, ни о чем не жалея, не думая. Тот, кто изучает буддистскую Дхарму и не пробует применить ее в собственном подвижничестве, подобен бедняку, подсчитывающему чужие богатства. Так говорится в сутрах?
– Так! – удивился Савел. – И ты не чужд. Да, мне смешно, когда пытаются держать Бога за бороду. Права даосская формула: «Умерить блеск и уподобиться пыли».
– Но отшельники уходили от страдания в «исконную просветленность». Искали исцеления в духовных практиках. А ты развлекаешь чепухой гуннов, ржущих бездумно глядя в зрелище.
Савел принял агрессивную стойку, готовый к отпору, как у себя в студии.
– Ты сам говоришь: есть закономерность – во все века в народе от силы пять процентов открывателей новых горизонтов, а остальные – порвут за предание. Гунны целиком живут в корнях предания. Так всегда было. Все великие открыватели новых эпох – кончают на кресте. А не беги поперед батьки!
– Но в конце концов история идет по пути открывателей.
– Это когда еще будет!
Может быть, он в чем-то прав. Выпадение из эмоций – необходимо. В молодости мы хотим всего, веря, что взлетим на вершины, и восторженные толпы понесут нас на руках, осыпая цветами. Но старея, понимаем, что внешний мир нам не по зубам, и становимся бесстрастными и мудрыми, как учителя буддизма, чье подвижничество призывает к покою и ничегонеделанью. Дремотная Азия, опочившая на куполах, по-своему величава. Зачем же мне будить ее, она по-своему права. Может быть, и я хочу того же?
– Почему так сложилось? – раздражился я. – Что это за наваждение – ваше предание, где была только одна радость – глазеть на казнимого, где не было ни одного проблеска человеческого сочувствия? Вся ваша система – не для человека.
С Савела слетел весь налет даосизма.
– Да, гунны страдают, так же, как и ты. Может быть, не осознают этого. Ты называешь систему, которая держит народ в узде закона – бесчеловечной? Что можно предложить другое, кроме порядка? Без него «песьи головы», как ты зовешь «новых гуннов», совсем бы распоясались.
– Ты называешь порядком отсутствие настоящих выборов? Невозможность высказывать правду на твоем «позоре»? Неправедный суд, посадки свободно мыслящих? Попытки разогнать нашу Академию?
– Система вросла в сознание, как корни дерева. Ее не изменишь правдой на «позорах». Только скрутят тебя, а я этого не хочу.
Это была правда. Я неуверенно сказал:
– Я не учу гуннов – сам хочу понять.
– Они над тобой смеются. Слышал про себя матерные анекдоты?
– Они поймут. Только в том времени жить не придется ни мне, ни тебе. Может, ты и прав. Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть? А жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет, уходя.
Савел уставился в удивлении.
Я попытался стряхнуть с себя тяжесть от разговора, вспомнил о своих любимых и друзьях, которые меня вдохновляли – об Аспазии, Эдике, мыслителях – профессóре Академии. Нет, все не так плохо, ничего не пропало.
30
Моя любовь к погибшей Ильдике разгоралась от горечи вспыхивающей ревности к той ее жизни с другим, что была до меня. На Аспазию же я просто «положил глаз», как поживший и оценивший, что такое «родство душ», и никогда не возникало ревности к ее прошлому. Может быть, сердце пережило первую любовь.
Она по-хозяйски установила власть в моем доме. Пыталась привить мне любовь к вещам. Я оставался аскетом, и был экономным в трате сил, как сама природа, идущая наиболее оптимальным путем.
Она обставила мою комнату как альков. Привезла новую кровать, мебель, диван, повесила занавески, в лавках покупала всякие безделушки, правда, очень изящные. Она любила покупать: «Пусть будет». И нещадно меняла мое старое белье, несмотря на мои робкие возражения: «Это еще можно поносить».
Мы ссорились.
– Ты слишком мягок к шаньюю. И многое хочешь от бедных гуннов.
Женщины верят в любовь и готовы жертвовать собой ради близких. И не политичны. Они нападают на вождя из-за того, что он некрасив, с большим носом, узким лбом и маленькими холодными глазами, и не идут дальше бытовой болтовни, присваивая мнения близких по духу альфа-самцов.
– Все гораздо сложнее.
– Гунны не ленятся познавать себя. История грубо отказала им в поисках смысла, и от этого им так тяжела эта ноша. Они не знают смысла, и от этого бросаются на разные манки. Познавать – это тяжело, удается только немногим. Народ уже оправдан тем, что мужественно продолжает род, несмотря на угрозы со всех сторон. Он большую часть жизни вынужден жить в отключке от творческих процессов в мозгу. Высшее мужество жить – это самоутверждение, стремление к самосохранению. Надо помогать им, а не сомневаться, стоя в стороне.