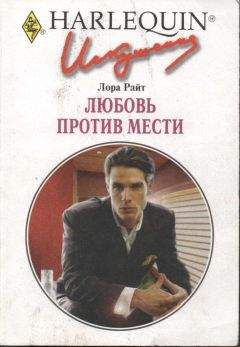Олег Маловичко - Исход
Страшно было до чертиков. По улицам шастали патрули, и он невольно ускорял шаг, прятал глаза и жался к стенам, когда видел их. Чудом пронесло.
У стоянки пригородных автобусов было сложнее. За деньги везти не хотели, топливных талонов, золота или продуктов с собой у него не было. Сергей пожалел, что перестал бриться — покрывавшая щеки щетина придавала ему разбойничий вид.
— Куда вам? — спросила крашеная дама из окошка фиатовского микроавтобуса.
— В Подмосковье, Шолохово.
— Зачем?
— У меня там мать.
— Там — где?
Сергей не хотел отвечать, но женщина спрашивала явно со своей целью.
— Котовского, двадцать четыре.
— Хрущевки желтые? — Она заулыбалась.
— Да, — ответил Сергей.
— Стрелять умеешь?
Он ответил утвердительно. Она качнула головой, и Сергей не сразу понял, что тетка предлагает ему сесть.
Ехал сзади. В пути тетка объяснила: ехать страшно, повсюду бандиты рыщут. Бросают «ежа» на дорогу, пассажиров забивают, головы рубят лопатами, чтобы патроны не тратить.
— А мне, — говорила тетка, весело глядя на дорогу, — как раз сегодня край — в Москву. Случись что, какие из нас с Петровичем вояки, правда, Петрович?
Пожилой водитель, нервно вцепившийся узловатыми руками в руль, недовольно покачал головой. Его достала и тетка, его начальница, и необходимость рисковать жизнью ради ее дел.
— Значит, так, Сереж, что начнется, я тебе сразу вот такую штуку дам, — она полезла под сиденье, где у нее стояла сумка, и достала «Стечкина», — и в твоих интересах будет нас защищать, ферштейн? Я-то сама не умею, а Петрович лет десять как не стрелок.
Она прыснула, Петрович поморщился.
Выехали из Москвы. Все вокруг выглядело вымершим. Заправки вдоль дороги не работали. Стекла магазинчиков были разбиты. Изредка на обочинах попадались остовы сгоревших машин, легковых и большегрузов.
Один раз Сергей увидел сложенные в ряд трупы. Они лежали на автобусной остановке, ногами к дороге, расставив ступни, босые у всех, галочкой. Рядом стоял армейский грузовик. Мальчик в висящей мешком военной форме хотел полить трупы из канистры — офицер дал ему подзатыльник и канистру забрал.
Зазевавшись, водитель чуть не въехал в зад автобусу, перегородившему две из трех полос. Шины «Фиата» заскрипели, их качнуло, но Петрович выровнял машину, объехав.
— Смотри, куда едешь, Ваня! — беззлобно укорила тетка, а он опять ничего не ответил.
Сергея при торможении бросило вперед, и он увидел папку, которую тетка сжимала под мышкой. Из этой папки торчали серые края талонных листов. Их невозможно было спутать ни с чем.
Вот почему не дала оружие сразу, подумал Сергей. Соблазн был бы велик: по нынешним временам тетка везла состояние. В каждом листе было, быстренько, восемь на шесть, сорок восемь талонов по пять литров, это сколько же, двести сорок, а таких листов у нее было минимум шесть. Полторы тонны бензина! Немногие бы устояли.
Она не умеет стрелять. Рука Сергея нащупала в кармане нож. Сзади — ей в шею, подумал он, затем — Петровичу к кадыку, тормози, сука, к обочине.
Выбросить обоих, забрать оружие, заехать к матери, вынести на руках, рвануть по Ярославке, объехать Сергиев, и Кармазин, оттуда, по пустой дороге — час до «Зари». С талонами он вернется героем. Можно выменять на продукты и оружие, окрыситься стволами на мир и выжить.
Кто они тебе? Людишки, каких ты не замечал, когда все было хорошо. Они бы тебя, не задумываясь. Полторы тонны, Сережа. Спасешь семью и лагерь.
Когда они высадили его у дома матери, тетка позвала пальчиком и сунула в руку два талона.
Дверь подъезда была сорвана с петель. Сергей удивился силе, примененной к бессмысленному действию. Прошел внутрь. На ступенях валялся мусор, не тот, что образуется повседневным человеческим бытом, а остающийся, когда переезжают в спешке. Пуговицы, носки, батарейки, разбитые стенные часы, разлетевшиеся по полу желтые исписанные листы из тетради в линейку, потерявшие смысл осколки чьих-то воспоминаний.
Двери двух из четырех квартир на первом этаже были сломаны. За третьей раздался шум, будто кто-то смотрел на Сергея в глазок, а потом отбежал. Сергей пошел вверх быстрее, ноги и руки похолодели, а в животе противно просело. Он уже знал: что-то случилось, но гнал от себя эту мысль, словно, не думай он ее, это изменило бы произошедшее.
Дверь в квартиру матери была взломана, но притворена. Сергей открыл, и в нос ему шибанул запах мочи и кала.
Квартиру ограбили. Взломали дверь, стали искать, чем поживиться, но здесь не было ничего — тогда разорили. Занавески были сожжены и болтались тонкими черными бровями над удивленными глазами окон. На полу валялись осколки посуды, одежда, книги. Размотанные рулоны туалетной бумаги простерли белые извилистые языки по коридору.
— Мама! — заорал Сергей и рванулся в комнату; стукнулся коленом о стол, споткнулся, бросился к кровати на корточках, закричал, вцепившись в волосы:
— Мама!..
Глаза Татьяны Ивановны были закрыты. Она лежала, выставив в потолок заострившийся меловой нос. Щеки запали в пустоту открытого рта, скулы очерчены были резче, и лицо ее казалось большего размера, надетым на маленький череп и обвисшим на нем.
— Мама, господи, мамочка… — Сергей боялся коснуться ее руки, боялся почувствовать окончательный и безразличный холод.
Он встал на колени и стал бить кулаком тумбочку у ее кровати, раз за разом, чтобы разбить дерево, чтобы самому больно. Закричал, затряс рукой. Обессиленно отвалился назад, спиной о стену. Рука наливалась теплым, и ныла, по щекам текли слезы.
Он надеялся: мать умерла до того, как пришли воры, и не видела, как они роются в ее вещах, как рисуют на стенах свастику и ломают мебель. Надеялся, что они не издевались над ней. Не стряхивали на лицо пепел. Еще он надеялся, что она умерла, не сильно страдая. Надо убедить себя, думал он, что она умерла счастливой, через десять минут после укола, обмякая, улыбаясь, погружаясь в ватное облако дремы.
Мать шевельнулась.
Сергей резко отскочил от кровати, надавив на больную руку и ойкнув.
Мама повернула голову, и из ее горла вырвался короткий клекот, будто она пыталась откашляться от слизи.
— Мама… — прошептал Сергей и бросился к ней.
Он пощупал руки — они были еле теплыми, погладил по щеке, позвал, но она не пришла в сознание.
Надо что-то делать, господи, надо что-то делать. Сергей приподнял одеяло и поморщился от вони, заморгав. Памперс пропитался калом и мочой, простыня пожелтела. Сергей снял одеяло и пошел на кухню. Открыл кран, но воды не было. Колонка, вспомнил он, во дворе есть колонка, он уже ходил туда, когда в прошлом октябре перекрывали воду.
— Сейчас, мам, я сейчас… — забормотал он, хватая в ванной ведра.
У колонки была очередь. Люди напряглись при появлении Сергея, потом расслабились. Веснушчатая лопоухая девчонка сказала, что «Орбита» больше не торгует за деньги, а «Овощной» закрылся совсем, и что Кирилловым хорошо, Руслику талоны дают, а у них папа с Москвы не вернулся.
Сергей принес воду и стал, задерживая дыхание, протирать мать. Он вытащил из-под нее простыню, и она лежала на прорезиненной блекло-зеленой прокладке. Он бегал к колонке трижды, пока ее не вымыл и не навел порядок в квартире. Это было бессмысленно, он знал, и с тем большей яростью соскребал с мебели грязь и возил мокрой тряпкой по полу. Он не мог позволить маме лежать посреди разрухи, он искупал невнимание к ней этой чистотой. Уборка занимала его и отодвигала мысль — что дальше?
За рядом кухонных тумб, в пыли, нашел кубик бульона в желтой фольге и сварил. Кормил мать. Ложка стучала о зубы, бульон лился на подбородок, и потом — на грудь, но он видел, как она сглотнула несколько ложек.
— Я здесь, мама, все нормально, — повторял Сергей.
За окном стемнело. Сергей закончил уборку. Подошел к матери и услышал какой-то звук. Склонился. Мать сипела. В сипении Сергей узнал высокие, длинные стоны. Она мучалась.
Ей больно, господи, больно!
Бросился к аптечке — ни невроксана, ни реланиума. Пошел к соседке, но той не было или не открыла. Побежал к больнице, шатаясь от усталости.
— Вы понимаете, чего просите? — спросила седая медсестра, дыхнув на него спиртом. — Даже не думайте. Вообще…
Она махнула на него рукой. Они стояли в начале коридора, а за ними, на стульях, каталках, на полу, лежали и сидели старые люди.
— Этим-то вы помогаете!
Она обернулась назад, как будто не понимая, о ком речь.
— Им? А что делать? Их привозят по ночам и выбрасывают, как на свалку… — Она икнула. — Не на улице же оставлять. Им здесь умирать удобней. Не в смысле помощи, а морально. Мы им что можем… И никакие мы не герои… Пока лекарства покупают — продаем, а там свалим, на этих не посмотрим. У меня четверо брошенных детей в онкологии. Вот с ними я не знаю что делать!