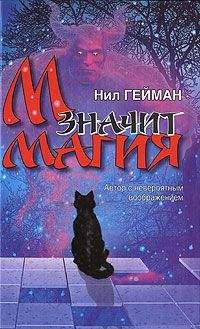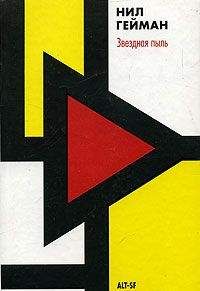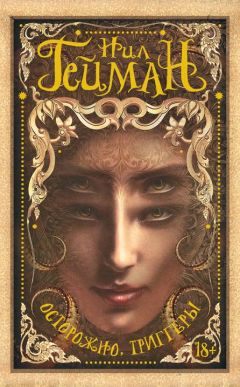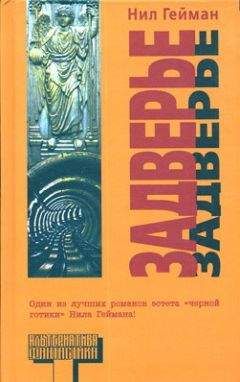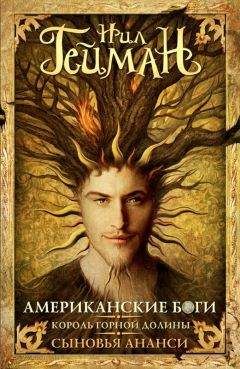Нил Гейман - Хрупкие вещи
– Да, – говорит она. – И поэтому я тебя вижу?
Я молча киваю.
– Сними маску, – говорит она. – А то у тебя глупый вид.
Снимаю маску. Мисси смотрит на меня с легким разочарованием.
– Не сказать, чтобы стало намного лучше. – Она говорит: – А теперь дай мне шляпу. И палку.
Я качаю головой. Мисси снимает шляпу с моей головы, отбирает у меня жезл. Она вертит шляпу в руках, ее тонкие пальцы мнут ткань. Ее ногти накрашены ярко-красным лаком. Ее губы растянуты в улыбке. Поэзия покинула мою душу. Я дрожу на холодном февральском ветру.
– Холодно, – говорю я.
– Нет, – отвечает она. –Все замечательно, дивно и просто волшебно. Сегодня же День святого Валентина. Кому может быть холодно в такой день? Сейчас – самое лучшее время года.
Я опускаю глаза. Разноцветные ромбы бледнеют, сходят с моего костюма, который становится призрачно-белым. Белым, как у Пьеро.
– Что со мной происходит? – спрашиваю я у нее. Она отвечает:
– Не знаю. Кажется, ты исчезаешь. Или находишь другую роль... Может быть, роль влюбленного, страдающего от безнадежной любви, погруженного в сладкие грезы, льющего слезы под бледной луной. Тебе нужна только твоя Коломбина.
– Ты. Ты – моя Коломбина.
– Уже нет, – отвечает она. – В этом-то и заключается все веселье арлекинады. Мы меняем костюмы. Меняем роли.
Она улыбается мне. Улыбается так хорошо – теперь. Потом надевает мою шляпу, мою арлекинскую шляпу. Игриво бьет меня под подбородок.
Я ее спрашиваю:
– А ты?
Она подбрасывает в воздух жезл. Он летит по широкой дуге, красные и желтые ленты развеваются на ветру, а потом жезл возвращается в ее руку – аккуратно, почти беззвучно. Она опирается на него, как на трость, и поднимается на ноги – плавным, едва уловимым движением.
– У меня много дел, – говорит она мне. – Взять билеты. Пригрезиться стольким людям. – Ее синее пальто, доставшееся ей от мамы, уже никакое не синее. Теперь оно ярко-желтое, в красных ромбах.
Она наклоняется и целует меня прямо в губы, по-настоящему.
Громкий выхлоп автомобиля. Я испуганно вздрогнул, обернулся на звук, а когда повернулся обратно, ее уже не было. Пару минут я сидел на скамейке – один.
Дверь кафе распахнулась, и Чарлин выглянула наружу.
– Пит. Ты уже все?
– Все?
– Иди работать. Харв говорит, твой перекур затянулся. И потом, ты замерзнешь. Ладно, давай ноги в руки – и марш на кухню.
Я смотрел на нее. Все смотрел и смотрел. Она накрутила на палец кудрявую прядь и улыбнулась мне. Я поднялся, расправил белую униформу помощника на кухне и пошел следом за Чарлин в кафе.
«Сегодня День святого Валентина, – подумал я. – Вот и скажи ей о своих чувствах. Скажи прямо сейчас».
Но я ничего не сказал. Не решился. Просто вошел в кафе следом за ней – унылый образчик немого томления.
На кухне меня дожидались горы немытых тарелок: я принялся сгребать объедки в мусорное ведро. На одной из тарелок остался кусочек какого-то темного мяса и пара ломтиков картошки, щедро политой кетчупом. Мясо, судя по виду, было почти сырым, но я обмакнул его в загустевший кетчуп и, когда Харв отвернулся, быстро сунул кусок мяса в рот, прожевал и проглотил. Оно было жестким, как хрящ, с металлическим привкусом, но я все равно его съел. Почему – сам не знаю.
Капля красного кетчупа сорвалась с тарелки, упала на мой белый рукав и растеклась в форме ромба.
– Эй, Чарлин, – крикнул я. – С Днем святого Валентина!
И принялся насвистывать веселый мотивчик.
ЗАМКИ
Locks
Перевод. Н. Эристави
2007
Друг другу рассказывать сказки –
Занятье не только
Для дочери и отца,
А просто – для двух людей.
Я начинаю – в сотый, наверно, раз:
«Жила-была девочка, звали ее Златовласка,
ведь косы ее золотыми и длинными были.
Пошла она как-то в лес, и там увидала...»
«...коров», – звучит уверенный твой голосок.
(Ты вспомнила явно, как месяц назад,
в роще, близ нашего дома,
блуждали несколько телок, из стада сбежавших.)
«Ну, предположим, коров она встретила тоже.
Но в самой чаще она увидала дом».
«Большой такой, многоэтажный?»
«Нет. Маленький, весь расписной и очень красивый».
«Не-е. Дом был большой и многоэтажный».
О, как бы мечтал я воспринимать бытие
Столь же ясно, как и моя двухлетняя дочь!
«Ну да, конечно, – огромный, многоэтажный.
Вошла Златовласка в дом...»
Я вспоминаю невольно – в балладе Саути
Локоны героини посеребрила старость.
Старуха и Три медведя – каков номер!
Но, может, когда-то старуха была ребенком,
И косы ее тогда золотились?
Ох. Мы почти что дошли до медвежьей каши.
«Она была...»
«Слишком горячей?»
«Нет...»
«Слишком холодной?»
И – наконец-то в единый голос –
«Она была очень вкусной!»
Домучена каша. Грязные – все три ложки.
Прошла Златовласка в спальню,
Разворошила постели
И в меньшей из всех уснула.
И тут воротились медведи...
Я, все не в силах забыть о Саути.
Рычу на разные голоса:
Суровый рев Папаши-Медведя
Пугает – и восхищает.
Знаешь, дитя мое, – был и отец твой некогда мал.
Он тоже любил эту сказку
Воображал себя
Не кем-нибудь – Медвежонком.
Кто съел мою кашу? Кто пил из моей чашки?
И что за девчонка сопит у меня в постели?
Я жалко скулю, – весь в роли, а ты смеешься.
«Кто ел из моей миски?
Кто пил...»
«Из моей чашки», – ответ твой
подобен слову «Аминь».
Медведи шагом сторожким крадутся наверх.
Их дом обесчещен. Они наконец понимают
Смысл слова «замки». Они доходят до спальни.
«Кто спал у меня в кровати?» – и я замолкаю,
в сознаньи –
отзвуки старых шуток, и порнофильмов нелепых,
и заголовков страшных газетных.
Однажды, дитя мое, рот твой тоже
Скривится усмешкой.
Сначала не станет слов, невинности – позже.
Невинность – товар, что давно уже вышел из моды.
«Если б я мог, – писал мне когда-то отец.
сам, как медведь, огромный, –
Я бы тебе отдал свой жизненный опыт.
Чтоб не был твой опыт столь горьким».
А я бы его опыт тебе завещал...
Но все мы, увы, совершаем свои ошибки. Мы все
Спим в медвежьих постелях.
Когда родятся дети твои, когда твои темные косы
Посеребрит время.
Когда ты начнешь стареть, и выйдут из сумрака ночи
Твои Три медведя, – что в их глазах ты увидишь?
Какие расскажешь сказки?
«А Златовласка выскочила в окошко
и быстро-быстро...»
давай-ка хором! –
«...домой прибежала!»
И ты смеешься: «Еще, еще!»
Друг другу рассказывать сказки – это занятье!
Наверно, теперь я похож на Медведя-папу.
Каждое утро я запираю двери на все замки,
А когда возвращаюсь – проверяю кровати и ложки.
Снова.
Снова,
И снова...
ПРОБЛЕМА СЬЮЗЕН
The Problem of Susan
Перевод. Т. Покидаева
2007
Ей опять снится тот сон.
Она стоит на краю поля боя, вместе с братьями и сестрой. Лето. Трава невероятно зеленая, яркая, сочная, как на крикетной площадке или на склонах Саут-Даунса к северу от побережья. На траве лежат мертвые. Только это нелюди. Вот кентавр с перерезанным горлом, буквально в двух-трех шагах от нее. Она смотрит на мертвого кентавра. Его лошадиная половинка покрыта ярко-каштановой шерстью. Загорелая кожа на человеческой половинке – коричневая, как ореховая скорлупа. Она вдруг ловит себя на том, что смотрит на лошадиный пенис. Интересно, а как размножаются кентавры? Она представляет себе, как он целует ее, крепко-крепко, и его борода щекочет ей кожу. Взгляд сдвигается к ране на горле, к липкой лужице крови черно-красного цвета. Мурашки по коже.
Мухи жужжат над телами мертвых.
Цветы как будто запутались в высокой траве. Они расцвели вчера. В первый раз за последние... сколько лет? Сто? Или, может быть, тысячу? Или сто тысяч лет? Этого она не знает.
Раньше здесь был только снег, думает она, глядя на поле боя.
Еще вчера здесь был снег. Вечная зима без рождественских праздников.
Сестра тянет ее за руку и показывает пальцем куда-то в сторону. Они стоят на вершине зеленого холма, погруженные в беседу. Золотой лев, заложивший обе руки за спину, и колдунья, одетая во все белое. Сейчас она сердится, кричит на льва, а тот просто слушает молча. Детям не слышно ни слова: что говорит льву колдунья, объятая белой холодной яростью, что монотонно бубнит в ответ лев. Волосы у колдуньи – черные и блестящие. Губы – красные, ярко-красные.