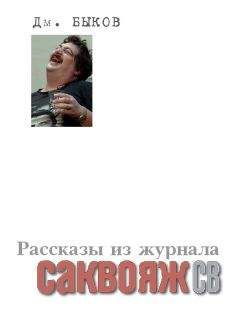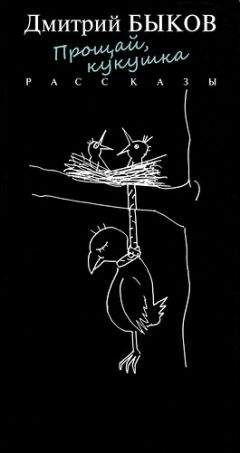Дмитрий Быков - ЖД-рассказы
«И вот в нелегкое это время скупо и неярко, словно стыдясь неурочного часа, расцвела любовь Федора Морозова и Клашки Никульшиной. Они не ложились теперь, как когда-то, в пахучие травы, не гулевали, взявшись за руки, по зареченским лугам, любуясь, как зажигаются звезды. Наработавшись бок о бок в тех самых лугах, они присаживались приморить усталость, и Клашка доверчиво мостила головенку на его мосластые колени.
– Что ж закрепшее вино в ковшике носить?- спрашивал Федор.- Расплещется! Не томи, Кланя!
– Не могу я допрежь свадьбы, Федя!- разрумянясь от стыда и доверчивого девичьего желания, отвечала Клашка.- Как я людям в глаза посмотрю, как мамане отвечу?
Хмыкал да гмыкал Федор, а вокруг духмнно возрастали горькие сибирские травы…»
При этих словах руки длинноволосого беспокойно задвигались, словно ища, кого схватить. Даша поспешно сунула ему кружку, в которой пенилось подогретое молоко. Пациент осушил ее единым духом и сомнамбулически откусил полгорбушки, после чего сморщился и мелко затрясся.
«Сильно и часто вздымалась Клашкина крепкая грудь, увлажнились чуть раскосые глаза.
– Люб ты мне, Федя!- выдохнула она и, рванув на тугих грудях платье из застиранного ситчика…»
Длинноволосый содрогнулся всем телом и прерывисто вздохнул, как человек, сдерживающий рвоту.
– Не сдерживайтесь!- повелительно воскликнул Колесников.
Длинноволосый открыл рот. В воздухе запахло хорошим парфюмом и альпийским медом. Внезапно пациент закашлялся, и изо рта у него вылетела небольшая серая бабочка, больше напоминавшая моль, покружилась над длинноволосым, словно изумляясь, как могла выбрать такое непрезентабельное жилище, и вылетела в заблаговременно открытую Дашей железную дверь. Все произошло так быстро, что Коркин не успел опомниться.
– А что такая маленькая?- полюбопытствовала высокая темноволосая девушка из угла.
– Раз на раз не приходится,- оборотился к ней Колесников.- По таланту, дорогая моя, по таланту. Из Виктора Ерофеева в свое время вообще мушка вылетела, типа дрозофилы… А как благодарил!
Длинноволосый медленно приходил в себя. Неузнающими глазами обвел он комнату, словно спрашивая: где я? отчего так сижу? Впрочем, ввиду излечения он уже не спрашивал ничего подобного. Нормальным, нисколько не надменным голосом он поинтересовался:
– Николай Андреевич, получилось?
– Ну вы же сами чувствуете, дорогой мой!- улыбнулся Колесников.- В Батово не тянет? По родине не тоскуете? Перестал я вам напоминать шахматного коня?
Длинноволосый порывисто вскочил, несколько раз энергично тряхнул руку экзорциста и, забыв в кресле свою папку, вылетел за дверь.
– Набоков вообще хорошо изгоняется деревенщиками,- доверительно пояснил Колесников.- Это дух покладистый, невредный… Вот с самими деревенщиками труднее. Давеча одного два часа Сартром отчитывал – ну и хлынуло же из него потом, правду сказать! Конским навозом три дня пахло, а в сочетании с елеем это, знаете, то еще амбре… Ну-с, продолжим. Почитаете, что ли?- обратился он к высокой брюнетке, спрашивавшей про размеры бабочки.
Брюнетка была ничего, только держалась болезненно прямо, словно проглотила линейку, и нехорошо посверкивала глазами, особенно долго задерживая взгляд на бедном Коркине. И ноги у нее были великоваты, размер эдак сороковой,- не то Коркин, конечно, возымел бы на нее виды.
– Всем взглядом – вонзаюсь,
Всей грудью – прильну,
Всем телом – вгрызаюсь
В твою – глубину,-
с легким задыханием скандировала брюнетка по рукописи, обозначая паузами бесчисленные тире.
– Распята – навеки
На зимнем – ветру,
Учитесь, калеки,
Пока – не умру!-
с вызовом закончила она.
– Сложный случай,- покачал головой Колесников.- С одной стороны, чистая цветуша, но с другой… почерк покажите, пожалуйста.- Он впился взглядом в тетрадь.- А почему вы заглавное А пишете как строчное, только перечеркиваете? Эх, ахматовская душа… И потом вот это.- Он небрежно перелистнул страницу.- «Таинственных слов твоих жало, томительных горечь утех я в тысячный раз променяла на то, что доступно для всех…» Да, голубушка, сложно. Как-то они вас борют по очереди… Чем же мне вам помочь-то? Дашенька, тальяночку бы мне…
«Неужели Есениным будет отчитывать?!» – ужаснулся Коркин, но Колесников уже развернул крошечную гармонику, и при первых ее звуках брюнетка погрузилась в тяжелый сон. Даша достала из кармана красный платок, повязала на голову и мгновенно преобразилась в пейзанку. Колесников приплясывал, высоко взбрасывая короткие ноги.
– Дура, дура, дура ты,
Дура ты проклятая,
У него четыре дуры,
А ты дура пятая!-
запел он неожиданным дребезжащим фальцетом.
Даша, взвизгивая, подхватила:
– Мине милый изменил
Под железным мостиком!
В добрый путь,- ему сказала,-
Обезьяна с хвостиком!
И на два голоса они триумфально закончили свой дивертисмент:
– Сидит милый у ворот,
Моет морду борною,
Потому что пролетел
Ероплан с уборною!
На этих словах брюнетка выпрямилась более обыкновенного и принялась изрыгать клубы папиросного дыма. Повеяло древними поверьями, старинными духами и немного отчего-то ладаном. Послышался демонический женский смех, перешедший в икающие рыдания. Кратковременно попахло сиренью; брюнетка испустила стон страсти и обмякла.
– Скажите,- спросил осмелевший Коркин, пока она приходила в себя и поправляла прическу,- а вы с Сорокиным поработать не пробовали? Вот где, по-моему, благодатная почва… хотя, простите, если я лезу не в свое…
– Да как же с ним поработаешь, голубчик?- искренне изумился Колесников.- Из него дня три лезть будет, по преимуществу Петр Павленко, это сами знаете, какие ароматы,- а потом, ведь ничего не останется, у него сил не хватит своими ногами уйти! Рассеется, как Грушницкий из школьного сочинения. Помните? «Грянул выстрел, и Грушницкий рассеялся как дым». Я тут недавно из одной поэтессы – не будем называть имен, дама известная, православная – целый букет изгнал, весь Серебряный век, почитай, и еще Слуцкий… навонял мне тут ружейной смазкой… И что вы думаете? Под руки выводили, пять килограммов потеряла за сеанс! Теперь уехала на пасеку и больше не пишет. Следующий!
Короткий опрятный мужчина лет сорока пяти с бородкой клинышком, с крошечными изящными ручками и ножками прочел абзац, из которого Коркин понял только, что какой-то японский рыбак никак не мог понять, он ли снится рыбе или рыба ему, после чего выяснилось, что оба они снятся арабскому звездочету, который, в свою очередь, является галлюцинацией Артюра Рембо, а Рембо на самом деле не было, потому что его выдумал слепой аргентинец. С аргентинцем все было понятно по первой фразе, но Колесников слушал внимательно, не прерывая. Наконец абзац кончился. В финале выяснилось, что слепой аргентинец тоже не существовал, потому что привиделся в горячечном бреду дочери бедного скотовода, которая после такого кошмара сошла с ума и умерла, не приходя в сознание. Колесников медлил и хмурился.
– Сильный… сильный дух… давно его не было,- бормотал он, подойдя к книжному шкафу.- Что бы тут попробовать? С Гессе работал, с Кортасаром работал, а этот библиотекарь чертов… Лучше бы Джойс, право слово, или Пруст, на худой конец, против этих Мельников-Печерский отлично шел… А, ладно, была не была!- Он сделал повелительный пас в сторону изящного коротышки и гробовым голосом продекламировал:
– Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки,
И разнеси по свету семена,
Плодящие людей неблагодарных!
Здесь, однако, произошло неожиданное. Коротышка встал и лихорадочно быстро заговорил, не открывая глаз, не выходя из транса, но бурно жестикулируя:
– Как, разве вы не знаете? Никакого Шекспира не было, это плод коллективной мистификации французского библиографа прошлого века Пьера Менара и его аргентинского приятеля Хереса де Пуэльяра! Об этом можно прочесть в единственном сохранившемся томе энциклопедии литературных курьезов, которую выпускал в Антананариву сумасшедший исследователь древних языков…
– Эк его разобрало-то,- сокрушенно покачал головой сосед Коркина, плотный мужичок с хитроватым лицом.- Активизировался…
– Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит,- пожал плечами Коркин.
Как ни странно, эта цитата, произнесенная вполголоса, произвела на борхесомана совершенно потрясающее действие. Он мелко затрясся, и глаза его стали медленно открываться.
– Продолжайте, продолжайте!- яростно зашептал Колесников.
– Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить,- напел Коркин.
На словах «так природа захотела, почему – не наше дело» изящный коротышка вдруг испустил из всего своего существа облако пыли, словно его выбили, как старый ковер, принадлежавший упомянутому знатоку восточных языков. Запахло старой бумагой, зубным эликсиром и плесневым грибом. Изо рта одержимого выполз маленький книжный червь и в горестном недоумении шлепнулся на пол, где его тут же раздавил торжествующий Колесников.