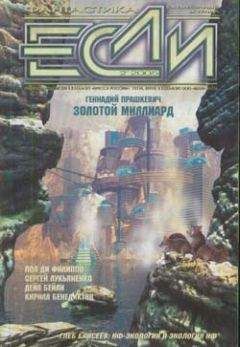Составитель Чекмаев - Либеральный Апокалипсис. Сборник социальных антиутопий
— Юлия Михайловна! — окликнул художник эту нелепую парочку.
Женщина вздрогнула и обернулась.
Барсуков даже улыбнуться успел, прежде чем его крепко взяли за шиворот.
— И все–таки, мужчина, у вас нездоровый интерес к ребенку, — сказал давешний, в очочках. — Кабан, уважаемый, не могли бы вы поинтересоваться у господина…
У Барсукова мерзко захолодело в животе.
— Я художник, — выдавил он сквозь перехваченную воротом гортань. — Я портрет пишу…
— Он художник, — подтвердила женщина едва слышно и посмотрела Барсукову в глаза. — Меня предупреждали, что вы приедете завтра.
Барсуков кивнул, чуть не удавившись в Кабаньем захвате.
— Вот завтра и приезжайте, — сварливо резюмировали очочки. — Кабан, уважаемый!
Кабан отпустил ворот и бережно отряхнул Барсукову пальто. Барсуков почувствовал, как затрещали ключицы под Кабаньими пальцами.
Назавтра Барсуков стоял у дверей при полном параде: костюм, галстук, вычищенные ботинки.
— Вы один? — спросили из–за дверей.
— Э–э… да! — немного растерялся Барсуков.
Его впустили. Барсуков, потея в костюме, развернул в холле освещение, настроил камеры, поставил мольберт. Юлия Михайловна равнодушно наблюдала за возней и только спросила, прежде чем выйти на свет:
— Раздеться?
— Нет–нет! — поспешил остановить ее Барсуков и мимолетно удивился: почему же нет? Пашка примет работу только в стиле ню.
— Это хорошо, — сказала женщина и повысила голос: — Мика!
Мальчик несмело вошел и спрятался под вешалкой.
Барсуков работал несколько часов, прерываясь только на кофе. Раздражался, успокаивался, снова раздражался. Вечером сорвался и выкурил сигаретку.
— Я завтра приду, — буркнул он и заметил с неудовольствием, что женщина его боится. — Сегодня что–то не идет.
Он накрыл холст пленкой. Шрам просвечивал сквозь мутный полиэтилен.
Но и назавтра не пошло, хотя мальчик Мика заболел, и Юлия Михайловна явила, наконец, слабые признаки жизни. Она регулярно убегала в детскую, отчего Барсуков свирепел еще больше.
— Хотите кофе? — виновато предложила Юлия Михайловна в одну из недолгих передышек.
Барсуков согласился. Они сели в кухне, по–простецки, Юлия Михайловна оказалась совсем рядом — сидела, раскачивая легкомысленный тапок с помпонами, пахла чем–то неуловимо–приятным.
— Как вас зовут? — спросила она. — Извините, я должна была раньше…
— Нет–нет, ничего, — почти смутился Барсуков. — Григорий. Григорий Барсуков. Не слышали?
— Я не интересовалась искусством, — призналась женщина. — Меня зовут Юлией… впрочем, вы знаете. Называйте меня Юлей, если хотите.
Женщина помолчала.
— Я вижу, что у вас… проблемы со мной, да?
— Да, — кивнул Барсуков.
— Григорий, мне очень нужны эти деньги, — сказала Юля глухо. — Вы просто не представляете… Я практически на все готова.
Барсуков вздохнул.
— Он… настолько отвратителен? — спросила Юля, и Барсуков понял, что она о шраме. — Я накоплю денег и сделаю операцию. Мне сказали, что можно заполировать, но подвижность к мышцам не вернется. Ну, хоть так…
— Мне иногда кажется, что он живет своей жизнью, — попытался объяснить Барсуков. — Все время вылезает.
— А разве вам не это нужно? — удивилась Юля. — Вы же меня… как двухголовое чудище какое–то продаете.
Барсуков хлопнул ладонью по столу, и Юля вздрогнула.
— Я вас не продаю, Юля! Я пишу ваш портрет!
Женщина вдруг сверкнула глазами.
— Да какая разница, Гриша! Не подведите меня! — потребовала она. — Мне нужны эти деньги. Потому что скоро меня и впрямь захотят продать, вместе с сыном, а защитить меня некому.
— Что случилось? — решился на вопрос Барсуков. — Эти люди, которые за вами ходят, этот шрам — откуда они? Зачем?
— Тут вы правы — незачем! — Юля поднялась. — Мой бывший муж исчез, оставив серьезные долги. Восемнадцать миллионов! Все почему–то считают, что я к этому причастна… впрочем, неважно. Спасибо вам за тактичность, Григорий. Я спросила, насколько ужасно мое лицо, вы не стали врать в ответ. Работаем дальше?
Работали до ночи. Барсуков, уезжая, забрал наброски с собой и выбросил в ближайшую урну. Он не спал до утра. Нащупать решение не получалось: Юля не раскрывалась, и шрам оставался самой живой частью ее лица. А Барсуков не желал обнародовать за своей подписью художества маньяка–людореза.
Назавтра злой и не выспавшийся Барсуков немного накричал на Юлю, а потом долго и сердито работал в стол. В никуда. Женщина обиделась, но виду не подала. Она отвернулась, скрывая шрам, и часы подряд смотрела влажными глазами в окно.
За окном же бушевала осень. Барсуков уходил в нее, дождливую, как побитый пес. Дни утекали, снова объявились очкастый и Кабан, а предъявить Пашке было нечего.
Хотя портрет проявлялся с каждым часом. Его питали умные «живые» краски, барсуковский талант и Юлина отчаянная надежда. Но это был не тот портрет, за который Пашка согласился бы платить. На нем не было шрама. Совсем. Как только он появлялся, Барсуков безжалостно его вымарывал и продолжал исступленно творить незнакомую женщину.
Она ослепительно красивая, понял в какой–то момент Барсуков. Не выхоленной гламурной, а нутряной, солнечной, энергичной, как взрыв сверхновой, красотой.
Она добрая и теплая.
Она совсем не глупая.
Когда портрет улыбнулся, Барсуков понял, что пропал. Сроки вышли, а показать это чудо он не решится ни Пашке, ни Юле. Особенно ей. Вот она — на портрете — смеется. Вот сердится и плачет. Она — портретная — делает все, кроме того, что делает она же живая. Она категорически отказывается умирать.
Барсуков в конце концов потерялся во времени и, кажется, даже разок заночевал у мольберта. Во всяком случае он не мог вспомнить потом, когда и как объявился бледный Мика с перевязанным горлом, увидел портрет…
И сказал захлебывающимся шепотом:
— Мама?!
Барсуков увидел, как распахиваются все шире и шире Юлины глаза, и едва успел подхватить ее — под громогласный мальчишечий рев мама упала в обморок.
— Только превью, — твердо сказал Барсуков. — Оригинал еще в работе.
— Что–то ты раздухарился, Барсук, — процедил Пашка, — ой, не к добру, ой, смотри у меня!
— Паша, я знаю, что тебя не устроит, — пошел в наступление Барсуков. — Случай сверхсложный, ты же понимаешь. Позволь пообщаться с заказчиком. Я смогу убедить его.
— Еще будут пожелания? — кротко осведомился галерист.
— Да. Гонорар Юлии Михайловне необходимо выплатить сейчас же и в полном объеме. Можно за мой счет.
— Ну, это понятно, что за счет… Показывай! — велел Пашка.
Барсуков развернул голограмму.
— И зачем ты это привез? — скучным голосом вопросил галерист. — Куда я это дену?
— Паша, давай по–взрослому, — не уступил Барсуков. — Все стоит денег. Моя работа тоже. Сведи с америганцем!
— С «америганцем»?! — передразнил Пашка. — Каким «америганцем», Барсук? Ты карты видел? Географию в школе учил?
— Я географию на войне учил, — скривился Барсуков, — пока ты галерею строил. И настоящие карты тоже видел. Сведи с заказчиком!
— А и черт с тобой, — подумав, сдался Пашка. — Убедишь заказчика — долю дам. Проваливай!
— Паша, деньги! — стоял на своем Барсуков. — Для Юлии Михайловны. Ты же знаешь, она под судом.
— Трахнул, что ли? Не побрезговал? — полюбопытствовал галерист, но, перехватив взгляд Григория, замахал руками. — Шучу, шучу, не кипятись! Деньги будут… как только с заказчиком договоришься.
Барсуков встал:
— Поехали!
Поехали. Серебристая «Испано–Сюиза» долго искала дорогу до внушительного особняка на берегу озера. Пашка нервничал, мило матерился и курил трубку за трубкой.
А Барсуков отчаянно боялся. Юля прислала еще утром текстовую реплику: «Гриша, они ходатайствуют Мику забрать!» — и с тех пор молчала. Пока галерист с помощником разворачивали в холле выставку, Барсуков безуспешно набирал Юлин номер, посылал реплики и оставлял голосовую почту. Но телефоны в зале суда традиционно глушились.
Адвокат и деньги, вот что нужно!
Барсуков спрятал телефон и впервые за много лет увидел америганца. Он был стар и невероятно толст, заморский гость, настолько, что даже ходить не мог. Его катил в роботизированной тележке слута–азиат.
— Не нравлюсь? А ты чего ждал, дубина?! — рыкнул америганец на галериста.
— Мистер Претт желает вам здоровья, — прочирикал азиат по–русски, и Барсуков затряс головой. Черт возьми, за пятнадцать лет он, оказывается, не забыл английского! А Пашка, дурак, никогда его не знал.
Пашка опомнился и запел. Когда Паша пел заказчику, соловьи в окрестных лесах теряли от зависти голос.
Америганец Претт откровенно скучал, перебирая работы. Наркозависимая чемпионка задержала его на полминуты, и Барсуков против воли почувствовал, как сладко затрепетало в груди, в том месте, где пряталось тщеславие.