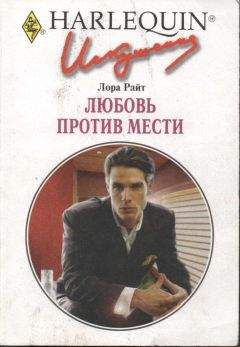Олег Маловичко - Исход
— Пойду посмотрю, — прошептал Игнат. — Ты здесь оставайся, приду потом.
— Я с тобой, — возразила Ольга, а Игнат не стал спорить.
Он пошел в направлении, откуда донесся смех.
Вышли к ручью. Стали слышны другие звуки — обыденной работы, несуетной и устоявшейся. Впереди, между деревьями, Игнат заметил свет открытого пространства, а в нем — чуждый лесу тусклый блеск. Теперь пошли от дерева к дереву, заранее выглядывая место, куда ступить. Деревья здесь стали реже, перемежаясь пнями.
Наконец Игнат замер за стволом, и, не поворачиваясь, остановил Ольгу поднятой ладонью.
Перед ними была вырубка, большая, километр в поперечнике. Блеск, который им виделся, давало солнце, отражаясь от стен одной из восьми теплиц.
Это были длинные строения со стенами, кое-где стеклянными, кое-где затянутыми полиэтиленовым листом. За стенками виднелась зелень. Теплицы отстояли друг от друга на десять метров. Пространство между ними было засажено зеленым кустарником.
С одного края к вырубке вела колея, продавленная гусеницами трактора. У первой теплицы стоял «Исудзу» на больших колесах, и кузов из-за них казался непропорционально малым. У машины курили, переговариваясь, трое. Больше всех суетился молодой, с закрывающей глаз иссиня-черной, вороньей челкой. Игнат не знал, что это Паша Головин.
Паша говорил быстро, взахлеб, смеялся, тряся плечами и прикрывая рот ладонью, но спутники не поддерживали его смех, отвечая вялыми улыбками. Один, пожилой и жилистый, матерый, с лицом в глубоких морщинах, казалось, не слушал Пашу, обшаривая цепким взглядом окрестности. Паша, чтобы обратить на себя внимание, стал трогать его за локоть, но старик поставил его на место злым и спокойным взглядом. Это был Мизгирь.
К компании подошел и почтительно замер, не приближаясь, человек в выцветшей до песочной желтизны рабочей куртке. Паша недружелюбно посмотрел на него. Тот снял бейсболку и заговорил, раболепно склоняя голову. Игнат узнал Ильхана. Паша недовольно кивнул, Ильхан махнул рукой кому-то за спиной — и женщины, их Игнат тоже знал, помогали с огородами, понесли к машине Паши объемные, но, судя по женской походке, легкие пластиковые мешки. В «Исудзу», насчитал Игнат, вошло больше двадцати.
* * *Есть дни, насыщенные событиями так плотно, что — хоть водой разбавляй, чтобы на неделю хватило. Сегодня был как раз такой.
Не успел Миша проснуться, как по телевизору сказали, что Израиля больше нет. Новость шла третьей, после указа нового президента о расширении функций МОР и репортажа об отделении мятежного Урала. Миша чистил зубы. Услышав новость, замер с мятной пеной во рту и вокруг губ, потом сплюнул бело-зеленым в траву.
— Сочувствую, — сказал Карлович.
— Не пори ерунды, — сказал Миша, хоть в горле собрался комок. — Это не моя страна. Я ничего не чувствую. У тебя наверняка в предках татары, ты ж не плакал, когда в Казани резня была.
Диктор сообщила, что, по мнению ученых, локальные ядерные конфликты на территориях Индии, Пакистана, Израиля и Ирана не окажут заметного влияния на экосистему планеты. Нет оснований связывать ядерные удары с затоплением прибрежных районов Северной Европы и аномальной жарой в Испании и Португалии, жертвами которой стали несколько десятков тысяч человек.
— В голове не укладывается, что Иерусалима нет, — Карлович выглядел потерянным. Плечи опустились, он стал старше лет на пять. — До этого была хоть какая-то надежда.
Он ушел варить кофе. Мише сейчас непременно нужно было заняться простой физической работой, чтобы вытеснить трудом тяжелые мысли, но, как назло, он не мог ничего придумать.
Позже сидели на веранде. Карлович заварил кофейник, принес со склада объемистую упаковку датского печенья, что подразумевало долгий разговор.
После съемок с вертолета воронки взорвавшегося в Египте реактора атомной электростанции дали репортажи из Берлина, Парижа, Вены, Лондона. Бегущая строка сообщила, что активисты движения за добровольное уничтожение Европы запустили вирус «Jimmy Dean» в системы водоснабжения восьми европейских столиц. Прежде, чем застрелиться, их лидер снял интервью на видео. Читал с листка и после каждой фразы смотрел в монитор с затаенным весельем стенд-ап комика.
— Европейские народы повинны в самых страшных грехах за всю историю человечества. Они пошли по пагубному пути сами и увлекли за собой весь порабощенный ими мир, и истинной свободы можно достичь лишь стерев европеоида с лица земли…
Карлович выключил телевизор.
— Такие уроды есть всегда, но только в страшное время их слушают. Издыхаем, Миша. Глобальный человек состарился и умирает. Симптомы были: войны, этнические конфликты, кризисы. Организм сигналил, а мы не лечились. Надо было зарабатывать, изобретать, осваивать… Вот и сгорели на работе. Раньше удавалось как-то сдерживать, а сейчас… Люди терпеть разучились. Все, не раздумывая, пойдут, класс на класс, страна на страну, раса на расу, сосед на соседа. Человек будет себя кромсать, пока заразу не вырежет. Главное, чтобы до смерти не зарезал.
Миша смотрел на Карловича с брезгливым снисхождением.
— Карлович, когда ж ты поймешь, не все вокруг человека вертится? Мы не больны. Мы — болезнь.
Дал собеседнику время осознать его мысль.
— Нас уничтожают. Не знаю — Природа, Творец, Мироздание, неважно. Планету поразил вирус цивилизации. И Земля с ним борется.
— Почему сейчас, не раньше?
— А мы как вши. Они на теле день живут, и наши сто лет — ночь для планеты. Успели нагадить. Выжрать недра, растопить ледники, вырубить лес, продырявить озоновый слой, взорвать тысячи бомб на ее коже, под каждый куст ядерных отходов набросать. Мы всего сто пятьдесят лет Землю уничтожаем. А для нее это была ночь, она проснулась и поняла, что больна. Нос заложен, по горлу наждаком проехали, башка раскалывается. Представь, что Земля — жива. У нее иммунитет и инстинкт самосохранения. Как она поведет себя с нами, в ответ на то, что мы сделали с ней? Что будет противодействием на наши действия? Просто убьет вирус, изживет нас — она уже начала. Она сводит людей с ума и насылает бедствия. Поиграла магнитным полем — миллион стариков в морге. Тряхнула корой — под лавой двадцать деревень в Латинской Америке. Послала волну — нет миллиона тайцев, повернулась боком к солнышку — пропал урожай в Африке, сбрасываем со счетов еще три миллиона жизней. А наш этот радикализм в политике, войны — реакция на действия планеты падкого на злобу человеческого мозга. Сейчас Земля чешется. Ищет верный способ разделаться с нами. Будет еще страшнее. Земля уничтожит цивилизацию.
— Обречены?
— Конец цивилизации не конец человека. Нет тварей, живучей нас и тараканов. Затаимся по углам, располземся по дырам, разбежимся по лесам. Погибнут старики. Молодые и безжалостные выживут. Никакого милосердия и сочувствия. Каждый сам за себя, все против всех. Ад. Умрут старые порядки, старая мораль и старые законы. Победит тот, кто переступит человека и станет зверем. Спасет мир зло, а не красота, потому что не красивые выживут, а злые. И хлеб будет не у тех, кто вырастит, а у тех, кто наворовал муки.
— Или у тех, кто будет стоять с пистолетом у затылка хлебороба.
Реальность выдернула их из мира страшилок автомобильным сигналом — оба дернулись от неожиданности.
У ворот стояла старенькая «Шевроле-Нива», низко севшая из-за прикрепленных сверху обмотанных веревкой узлов и сумок. У открытой двери машины стоял пожилой мужчина в клетчатой рубахе навыпуск, спортивных брюках, висевших на коленях мешком, и выгоревшей бейсболке. Заметив Мишу и Карловича, мужчина снял кепку, вжал голову в плечи, поклонившись, и отер тыльной стороной ладони пот со лба.
— Здравствуйте. «Заря»? — Миша не ответил, сразу насторожившись к старику, а Карлович кивнул. — Карабышев, Валентин Егорович, а это жена моя, Люба…
Женщина в машине не спала. Она откинула голову назад и приоткрыла рот. Ее грудная клетка тяжело вздымалась и опадала, лицо блестело от пота, и, хотя глаза были открыты, она вряд ли понимала, что происходит.
— Мы из Москвы. Нам адрес дети дали… Они на Алтае, там сейчас с китайцами заваруха…
— Я не разрешу вам остаться.
Старик замер. Посмотрел на жену, на Мишу, на Карловича, и, найдя ровесника, остался на нем, потерянно улыбаясь:
— Вы писали, принимаете людей.
— Мы не возьмем вас. Простите.
Старик никак не мог принять окончательности отказа. Он начинал выпрашивать, и его слабость ожесточала Мишу.
— Пожалуйста… Жене плохо. У ней сердце больное.
— В Яшине есть врач. Сорок километров отсюда.
— У нас бензина мало. Ей отдохнуть бы. Мы можем хоть пару часов…
— Я не пущу вас, потому что тогда вы останетесь.
— Да вы люди или нет?