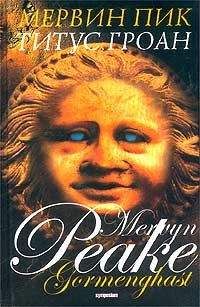Алексей Мороз - От легенды до легенды (сборник)
— Что, — говорит он, — страдалец? Намучился? Аль нет еще?
А в длани правой держит что-то, но не показывает. И тут замечает Симонис, что одеяние на ночном пришельце святительское, крестами отмечено — и как она прежде-то не видела? Открывает он пред ней длань свою, а на ней — два глаза! И говорит такие слова:
— Не скорби! Вот на длани моей твои очи. Я верну их тебе, коли будет путь твой прям.
Сказал это старец — и протянул ей глаза на ладони. Глянули те на Симонис — тут и оставил сон дочь базилевса. Странный то был сон, но вот чудо — пробудившись, почуяла она облегчение страданий своих.
Осталась Симонис в Константинополе на похороны материнские да на поминки, но выход из дворца отныне был ей заказан. Оплакивала женская половина Влахерны не токмо императрицу, но и грядущий брак в доме Палеологов. Просватали младшую сестру Симонис за Тохта-хана — потрепал он пограничье имперское, замирился с ним базилевс да дочь отдал по обыкновению. Вот уж правду говорила во время оно кормилица Симонис — свезло ей, сильно свезло, за христианского правителя замуж шла.
А тут сидела на подушках атласных девочка, совсем еще дитя, как сама Симонис когда-то, все равно что овечка, а няньки да тетушки напевали ей: «Кто ж виноват, что выпало жить нам в такое время… Никогда бы не отдали тебя этим варварам, но такова уж судьба дочерей базилевсовых… Ты одна только в силах помочь всем нам, семье своей и народу своему… Такова наша судьба». Готовилось семейство Палеологов к новому жертвоприношению. О сестрице же бедной оставалось Симонис только молиться.
Не могла уже более королева сербская сносить все эти слезы да стенания, коими всегда славилась женская половина дома ее. Надоели ей и извечные эти пяльцы с мотками нитей шелковых да золотых. Изменилась она за эти годы, не быть ей более овцой безответной. С некоторых пор старинные рукописи стали привлекать ее более, нежели рукоделия женские. Муж ее тому препятствий не чинил, но собрание книжевное в Призрене невелико было — почитай что и не было его вовсе, не то что здесь, в Константинополе. Во всем мире подлунном не было библиотеки, равной базилевсовой. Потому решила скоротать здесь Симонис тягостные дни, но совсем не ждала встретить тут отца. И подступилась она к нему, раз уж так вышло.
— А правда ли, батюшка, — вопросила она базилевса, едва поднял он голову свою от пожелтевших пергаментов, — что не просто так приходил Милутин тогда к стенам константинопольским? Правда ли, что долг был за базилевсом?
Поведала ему Симонис о разговоре своем с господарем — и про договор, базилевсом порушенный, и про татар, и про долг кровавый, что брал потом Милутин с ромеев.
— Правда ли все это? — вопросила Симонис базилевса.
Не сразу ответствовал тот:
— Правда, дочь моя, не бывает одна, их всегда много, правд этих. И то, что правда для Милутина, вовсе не обязательно правда для Андроника. Был договор, да решил Милутин, что базилевс нарушил его. А почему решил? Выставили воинство его супротив татар, дескать, обманом. Но не только его — и болгарское войско в бой вышло, и ромеи татарам противостояли, правда, в местах иных то было. И все единовременно — только так можно было одолеть нехристей проклятых. И ежели хотя бы один из союзников ушел, не повернул бы мечи свои супротив Орды — торжествовала бы она всецело. Всем жертвовать чем-то пришлось, не одним сербам. А как иначе? Раз враг пришел — время не торг вести, а защищать земли свои. Пошел я на хитрость, но разве был у меня выбор? Должны были сербы хотя бы ценою жизни своей задержать орду на несколько дней — они и задержали. Разве лучше стало бы нам всем, не возьми тогда я грех на душу? Что с того, что пали бы сперва Болгария да Македония, а потом уже и державы иные? До всех враги доберутся рано иль поздно. Так не лучше ли сразу ударить, собрав пальцы в кулак? Тогда и жертвы будут не напрасны, не перебьют всех в норах поодиночке. А что воинов много пало, так то не беда, женщины новых родят. Запомни, дочь моя! Немало варваров приходило в великую империю — и таких, и сяких, и всяких-прочих. Но приходили они и уходили, а империи стоять до второго пришествия. Когда припожаловали сербы твои в пределы имперские, — давно это было, но ромеи ничего не забывают, — то творили они такое, по сравнению с чем татары нынешние все равно что отроки из хора церковного. От Диоклеи до Солуни стояли вдоль дорог колья с наколотыми на них телами подданных императора. Подобно зверям лесным, живут варвары и умирают так же, не чуя боли. А нам хранить веру Христову да знание великое. Не жалей их, дочь моя. И не верь.
Настал день, когда снова села на корабль королева сербская со свитою своей и вернулась в страну, где теперь жила она. Если и знал что-то муж ее, король Милутин, про обитель Пантократора, то виду не подал. И потекли годы, один лучше другого. Закончились войны, поля родили исправно, народ благоденствовал, и детей рождалось особенно много. Росли с каждым днем знаменитые сорок задушбин, хорошели. Дивились люди на красу такую, кланялись стенам недостроенных храмов издали. И мнилось, что навсегда оставило эту страну благословенную страшное проклятие.
Расцветала день ото дня молодая королева, была она уже не ребенком, но женщиной. Красота ее только налилась новыми красками. Едва ли не половина ангелов да богородиц, коими украшали греки храмы сербские, были с лика ее писаны, к вящему удовольствию господаря. Но так и не полюбили королеву в народе. Ангел-то оно ангел, токмо знаем мы этих ангелов! Только отвернешься, а там уж и бес хвостом крутит. Говорили, что порчена гречанка, что, пусть и лик у ней ангельский да нрав кроткий, все зло для семейства господарского в ней одной сосредоточено. И еще говорили, что нельзя смотреть в глаза ей — околдует, ведьма.
Но взгляды обращены были отныне не только на королеву, как прежде, но и на наследника престола, королевича Константина. Был он прекрасен, как языческие боги древности, нельзя было на него наглядеться. Истый Неманич, брат своего отца и сын своего деда — немало про то говорено было в народе, каждый за долг почитал высказаться о том, на кого из отцов своих более похож наследник, в кого пошел он статью и норовом. Был он совершенен, и не было изъяна на нем. Горевшее в Неманичах пламя, как открылось Симонис, в молодые годы давало только свет, не отбрасывая тени. А еще был мальчик ласков и сильно любил мать свою.
Хоть и юн был летами королевич, а уж выезжал на господарскую охоту да лихо пускал с кулака в перчатке кожаной сокола королевского. Метко бил из самострела птицу да зверя. Лицом и телом подобен был Константин предкам своим — заметно сие было уже теперь. Порода. И умилялась мать, на него глядючи — точно такими должны были быть в юности и муж ее, и тот, другой. Особенно глаза… О, эти глаза! Но пугало Симонис, что сын ее так рано выказывать стал все черты породы своей. Подстрекал его к тому Милутин, сажал чадо неразумное на большого коня, брал на охоту да в лагерь к воинам своим. Всплескивала королева руками:
— Упашће! Разбиће се![56]
— Не падали еще с коней в роду нашем, — был ответ, — кроме брата моего, да и тот по воле Господней.
Едва только крепость появилась в руках Константиновых, дал господарь ему оружие — не детское, для забавы, а то, коим убивают на поле брани: остро заточенные клинки с золотыми, усыпанными самоцветами рукоятями, бьющие без промаха самострелы да буздованы всякие разные. Только меча в руки не давал, ибо роста наследнику недоставало покамест. Может, и недоставало, а в тринадцать лет был он уже выше матери своей. Зато в стычках со сверстниками не было ему равных, и гордился им господарь.
Мать, как и положено ей, тревожилась, ибо других детей родить уже не могла. Она все выписывала для сына лучших учителей из Константинополя, дабы учили они юного королевича языкам и наукам разным, дабы мучили его ненавистным всем отпрыскам знатных фамилий «Стратегионом». И с ужасом узнала она, что когда проснулся в Константине мужчина, — а было ему в ту пору двенадцать лет, — господарь сам привез для него во дворец трех ладных девушек да научил сына, что и как надлежит тому делать. Так принято было в семье этой. Девы же оные носили отныне одеяния яркие да украшения богатые, и хотя сами считались служанками, но тоже имели прислужниц.
Ярким было солнце в этих краях, высоко поднимали горы вершины свои. Испокон веков росла здесь лоза Неманичей. Любил их Господь — высоких, сильных и красивых, с дивными глазами. Плескались кудри их на горячем ветру, омывала вода ключевая тела стройные. Топтали кони их копытами молодые травы, а клинки в руках яростно блестели. Осушали они чаши с вином заздравные, плясали коло и ласкали женщин своих. Росла лоза, ветвилась, зрели багряные ягоды и проливались на иссушенную землю — то соком виноградным, а то и кровью. Королями становились они по праву рождения.