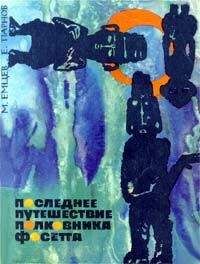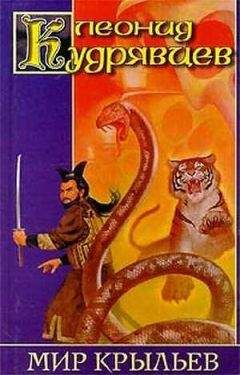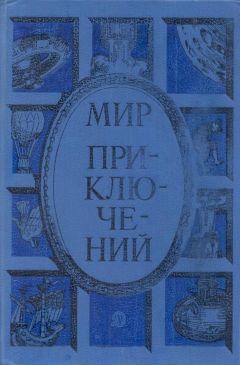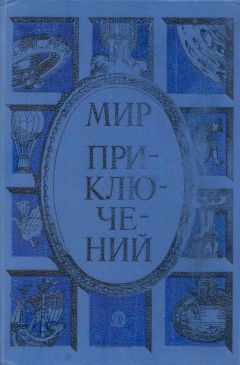Леонид Кудрявцев - День без Смерти (сборник)
Муза сжалась в комочек между столом и газовой плитой, спрятав голову под крыло, и вот тогда Ерасимов, ругаясь и пытаясь остановить кострюльный полет, между делом и выдернул из ее крыла одно перышко: мягкое, легкое, но с твердым, острым наконечником, — так ловко выдернул, что Муза, объятая испугом, ничего не заметила.
Теперь Ерасимов думал только об одном: как можно скорее опробовать перо. Перо Музы! Должно, теперь-то должно получиться! Долго он ждал своего часа. А ведь еще совсем недавно, лишь года три назад, узнав, что он — “рабочий поэт”, редакторы охотно брали его стихи, даже хвалили. Хорошо, теперь он не работает на заводе, зато стал больше читать, в стихи его проникли новые настроения и чувства, порою Ерасимов сам удивлялся: неужели это он выразился так умно? Как только додумался?! Однако, кроме него, никого это не восхищало, недаром же на сегодняшнем обсуждении главный редактор литературно-художественного журнала, похожий на шестидесятилетнего Атоса, поглаживая седые Усы и сочувственно кивая, так долго убеждал Ерасимова, что стихи его — все-таки “еще не то” и в каждом литературном произведении надо не только рассказать о чем-то, но и сказать что-то…
Интересное дело! Жизненного опыта у него хватает. Правда, с завода ушел, зато сколько написано с тех пор! И что же? Раньше злые языки называли его стихи рифмованным крекингом, а теперь… Ну ничего. Теперь у него перо Музы! Попробовать. Сейчас. Немедленно! А Музу пока чем-нибудь занять.
— Почитаешь?
Она ласково и насмешливо провела пальцем по корешкам книг:
— Я не умею.
— Читать не умеешь?!
— Для чего мне это?
И впрямь… К тому же, стихи, скажем, Сафо вряд ли издавались книжками. Какие-нибудь папирусы… Или глиняные таблички. Или что?
Это ладно, это со временем выяснится. А сейчас надо не только отвлечь, но и привлечь Музу. Привязать! Однако не узду же на нее набрасывать. А чем еще можно привязать женщину, как не домашними заботами? Ну, не вышло с едой — ладно, многие женщины не любят готовить. Придется упирать не только на свою мужскую силу, но и на слабость.
Ерасимов взял се под руку и чуть не задохнулся от самодовольства, ощутив, с какой преданностью Муза тотчас прильнула к нему. Захотелось обнять ее снова, поцеловать, но куда сильнее было другое желание- перышко кололось в кармане, словно просило заделья, поэтому Ерасимов пересилил нежность и только сжал локоток Музы, увлекая ее в ванную.
Как и следовало ожидать, она пришла в восторг от голубого кафеля, ворчливой струи воды, горячего и холодного кранов, мгновенной вскипающей белой пены стирального порошка… “Женщина есть женщина”, — с ле1ким пренебрежением подумал Ерасимов!.
Он сунул в мыльный раствор несколько своих рубашек, которые уж отчаялись дождаться такого счастья, стыдливо, с преувеличенной беспомощностью бормотнул при этом: “Знаешь, у мужиков руки как крюки!” — потом, снисходя к неопытности Музы, показал ей несколько простейших па стирки и быстрехонько смылся, оставив Музу, которая с любопытством разглядывала то пушистую пену, то голых и полуголых импортных девиц на стенках ванной.
Черт! Конечно, спешка была тому виной, что ничего не получалось… Ведь надо было успеть испробовать перо, пока Муза возится с бельем. Чернила, хорошо, нашлись, и бумага была что надо: финская, белизны более чем, снежной, почти потусторонней. И сколько образов, сколько мыслей наперебой неслось в голове!..
“Кружусь на мыслях, как на карусели…” — торопливо поскрипывая перышком, начертал Ерасимов и запнулся. Графоманская строка, а потом, ведь карусельные скачки заранее беспроигрышно-безвыигрышны, а его мысли отнюдь не соблюдали дистанцию. рот сейчас почему-то впереди воспоминание о том, как небо, словно некий голубой чай, забелилось молочным разливом облачной дымки.
“В чашу неба попало облаков молоко”, — начал было царапать Ерасимов, но чернила засохли. Пока он макал перо, мысли опять смешались. Это было похоже на знакомое и мучительное: счастливые, полнозвучные строки снились по ночам — а утром ни одной не вспомнить!
Ерасимов зло рванул пером бумагу, скомкал лист, отбросил, с тоской подумав почему-то об истертой тысячами ладоней, теплой от их прикосновения вертушке на проходной бывшего своего завода, но ни звука, ни слова, ни образа на эту тему у него уже не могло, возникнуть. Откуда-то явилось и точно так же внезапно исчезло воспоминание о давнем рассказе матери об ее отце, которого в тридцать втором году — он был секретарем сельсовета — озлобленные, оголодавшие крестьяне сожгли в стогу сена. С невероятным этим воспоминанием, черной графической чертой перечеркнувшей акварельную круговерть других мыслей и образов, кончились его творческие муки, а на листке сами собой записались слова:
Есть невозможные вещи,
О них никогда и не думай.
То, чего сделать нельзя,
Сделать не сможешь вовек.
И с лихим росчерком Ерасимов расписался: “Феогнид”.
Ерасимов тупо смотрел на листок финской бумаги, исчерченный незнакомыми буквами, ког-Да его легко тронули за плечо.
Ох! Мыльная пена капает с рук, и Муза как-то очень по-бабьи обтирает мокрые ладони краем прозрачной туники, будто фартуком. Ерасимов и забыл о ней!
— Слушай, тебя что — законтачило на этих древних? — воскликнул он, маскируя раздражением, сознание собственного бессилия. — Муза тоже мне!
Она смотрела не на него, а на свое перышко, испачканное фиолетовыми чернилами. Ерасимов быстро убрал руки за спину. Стыдно стало до легкой тошноты, но он бубнил обвиняюще:
— Не завидую тем, кого ты раньше посещала. Долдонишь одно и то же!
Глаза ее были по-прежнему нежны, и говорила она ласково, как с ребенком. Ерасимов вдруг заметил, что с величавого гекзаметра она незаметно перешла на язык обыденной прозы.
— Но ведь всех людей заботит, печалит, тревожит и радует одно и то же. Любовь, добро и зло. Все стихи об этом. Всегда.
— Да-а?! — возмутился Ерасимов. — Все стихи разные! А ты знаешь, что проповедуешь? Плагиат.
Она погладила его по голове влажными пальцами. Ерасимов дернулся. А Муза продолжала:
— Ну, конечно, стихи разные. Иначе в памяти людей остались бы только стихи того, кто первым сложил их. Самого первого поэта. Все стихи об одном, но каждый говорит по-своему, у каждого свое слово. Ведь и любовь для одного — шутка, игра, а для другого — мучение, смерть…
“А может, все проще? — мелькнула в голове Ерасимова мыслишка — точно ехидная усмешка. — Может, дело вовсе не в том, что Муза не может послать Ерасимову поэтический сигнал, а просто он сам не в силах воспринять его?”
— Ладно! — преувеличенно бодро сказал Ерасимов и встал. — Ладно. Хватит валять дурака. — Покосился на Музу — оценит ли остроту. Но она, видно, не поняла, и он украдкой швырнул перышко под стол. — Как там твои успехи?
Это была жуткая картина… В ванной на полу стояла вода. С мокрых, неотжатых, покрытых пузырящейся мыльной пеной рубашек текло. Мало того — они стали словно бы еще грязнее! Не висели на веревках — были закинуты скомканными на умывальник, борта ванны, раковину. Горячий кран сочился, шипящая струйка стучала в сугроб пены. Девицы на стенках потели.
— Вот ни фига себе! — еле выговорил Ерасимов. — Что ж это ты тут натворила?!
Она дернула плечом и подошла ближе. Да еще вроде как потянулась обнять Ерасимова — среди мыльного болота, скользкими руками. Ну, знаете!..
Тут уж он ей все припомнил. И Сафо, и Феогнида, и неподжаренную яичницу, и раскрытый холодильник, и оббитую эмаль кастрюль. И муки над снежно-белым листом. Он щедро швырнул ей в лицо свое страдание, потому что оно — как разменная монета: получил — и тут же отдаешь другому.
Да, много он ей высказал! “А для этого самого, — кричал, — баб вокруг сколько угодно. И каких угодно! Хоть маленьких, хоть черненьких, хоть серо-буро-малиновых и, главное, без крыльев. Удобнее будет! Если ты Муза, то какого черта стихов не посылаешь? А если ты баба, то, спрашивается, какого черта?., А?..” И он тыкал ей в лицо мыльную рубашку.
Муза молчала. Глаза у нее сперва были удивленные, потом испуганные, а потом стали никакими. Пустыми и безжизненными, как тот лист бумаги. Она повернулась и тихо пошла из ванной. На полу оставались следы ее босых ног, мокрые концы повисших “”крыльев тянули переломанную строчку. Вовремя ушла с глаз! А то поддал бы ей не только словесно!
Едва не кусая сам себя от злости, Ерасимов взялся за уборку. Между делом он постиг нехитрую истину, хорошо известную всем женщинам: домашняя работа не только утомляет, но и отупляет, то есть успокаивает. К тому времени, как рубашки были выстираны, выполосканы, выжаты, аккуратно развешаны, а ванная приняла приличный вид, злость Ерасимова слегка угомонилась. И пришло решение: больше Музу не бранить — наоборот, утешить ее как можно нежнее. Но потом все-таки быть с нею посуше и построже. Если что, не ждать вдохновения, а требовать его У Музы, как может требовать мужчина от женщины. А эта сцена пусть будет для острастки. Что же, что Муза? Баба! А кто в доме хозяин?..